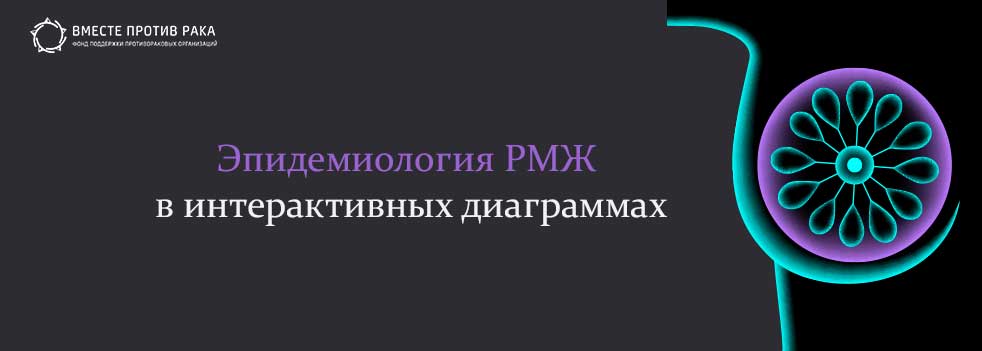
Во второй части обзора представлена аналитика и планируемые изменения всей цепочки норм по лечению РМЖ в России.
Главное
Рак молочной железы (РМЖ) занимает лидирующее место по заболеваемости и входит в пятерку самых смертельных злокачественных опухолей в мире и в России.
В 2020 году во всем мире зарегистрировано более 2,26 млн случаев РМЖ, что составляет 11,7% всех случаев злокачественных новообразований у лиц обоего пола. Общее число умерших от РМЖ в 2020 году достигло 685,0 тыс. человек (6,9% всех случаев смерти от рака). По уровню смертности РМЖ уступает только раку легкого и желудочно-кишечного тракта (рак ободочной кишки, прямой кишки и ануса, рак печени и желудка).
В России в 2020 году абсолютное число случаев РМЖ составило 65 468 (11,8% в структуре общей заболеваемости раком). При этом подавляющее число случаев зарегистрировано среди женщин – 64 951 (среди мужчин – всего 517 случаев). Стандартизованный показатель заболеваемости женщин в 2020 году оказался на уровне 47,39 случая на 100 тыс. человек, что сопоставимо с мировыми значениями (47,8 случая), а «грубый» – существенно выше: если в мире он составляет 58,5 случая на 100 тыс. человек, то в России – 82,77 случая. В период с 2011 по 2019 год в России наблюдалась устойчивая тенденция к росту заболеваемости РМЖ, причем как абсолютных значений, так и стандартизованного и «грубого» показателей. Данный тренд прослеживается среди всего населения и среди женщин и мужчин по отдельности.
Смертность от РМЖ в России, как и во всем мире, остается высокой. Абсолютное число умерших от этого заболевания в 2020 году составило 21 634 человека, из них 21 462 женщины и 172 мужчины. У женщин стандартизованный показатель смертности от РМЖ (13,24 случая на 100 тыс.) в целом сопоставим с мировым значениями (13,6 случая), а «грубый» существенно его превышает (27,35 и 17,7 случая соответственно). В то же время нельзя не отметить, что смертность от РМЖ на протяжении последних 10 лет постепенно снижается. Описанные тренды наблюдаются как среди всего населения, так и среди женщин и мужчин по отдельности, что свидетельствует об эффективности мер по ранней диагностике и лечению этого заболевания.
РМЖ все чаще выявляют на ранних стадиях. Если в 2011 году на I и II стадиях диагностировано 65% случаев, то в 2020 году – уже 72%. Одновременно уменьшается доля больных с III стадией (с 24,8% в 2011 году до 19,6% в 2020 году) и IV стадией (с 9,1 до 8,1%).
Лечение РМЖ, как правило, комплексное. Лишь порядка 35,4% пациентов в случае своевременного выявления заболевания нуждаются исключительно в хирургическом вмешательстве. Соответственно, доля пациентов, которым назначается комбинированное или комплексное лечение (операция и лекарственная терапия), в 2020 году составило 64,5%.
Согласно прогнозам заболеваемость и смертность от РМЖ будут расти как в России, так и во всем мире.
В мире
РМЖ занимает лидирующее место по заболеваемости среди других злокачественных опухолей в мире и 5-е место по числу умерших. По данным Global Cancer Observatory, в 2020 году во всем мире зарегистрировано более 2,26 млн случаев РМЖ, что составляет 11,7% всех случаев злокачественных новообразований у лиц обоего пола.
По стандартизованному и «грубому» показателям заболеваемости РМЖ, как и в абсолютных значениях, опережает все злокачественные новообразования. Так, стандартизованный показатель в 2020 году составил 47,8 случая на 100 тыс. человек, а «грубый» показатель – 58,5 случая.
Общее число умерших в 2020 году достигло 685,0 тыс. человек (6,9% от всех случаев смерти от рака). По абсолютным цифрам смертности (лиц обоего пола) РМЖ уступает раку легкого, ободочной кишки, прямой кишки и ануса, печени и желудка и занимает 5-е место в рейтинге, но по стандартизованным и «грубым» значениям находится уже на 2-м месте (13,6 и 17,7 случая на 100 тыс. человек соответственно).
Заболеваемость злокачественными новообразованиями и смертность от них в мире в 2020 году
Половая принадлежность является самым серьезным фактором риска развития РМЖ: большинство заболевших – женщины. На долю РМЖ в 2020 году приходится около 21,7% случаев рака у женщин. По уровню смертности РМЖ занимает у женщин 1-е место (15,9% всех случаев смерти от злокачественных новообразований).
У мужчин РМЖ – редкая патология. Заболеваемость составляет 1 случай на 100 тыс. человек, т. е. у мужчин РМЖ встречается приблизительно в 100 раз реже, чем у женщин, составляет 0,1–1,5% всех случаев злокачественных новообразований и 0,5–2,0% всех опухолей молочной железы. Но при этом у мужчин РМЖ протекает более агрессивно, чем у женщин. В структуре причин онкологической смертности мужчин на долю РМЖ приходится 0,3%, что достаточно много для такого редкого заболевания. В последнее десятилетие отмечается увеличение числа мужчин, страдающих этим заболеванием.
Семейная история РМЖ увеличивает риск его развития, однако у большинства больных с диагностированным РМЖ нет в семейном анамнезе сведений о случаях этого заболевания у близких родственников. Определенные унаследованные высокопенетрантные мутации в генах значительно увеличивают риск развития РМЖ, причем доминантными являются мутации в генах BRCA1, BRCA2 и PALB-2.
Российские данные о заболеваемости
В России РМЖ по абсолютному числу случаев опережает другие злокачественные новообразования (у лиц обоего пола – 65 468 случаев в 2020 году, 11,8% в структуре общей заболеваемости раком, у женщин – 64 951 случаев в 2020 году, 21,7% среди всех видов рака). В 2020 году было зарегистрировано 517 случаев РМЖ среди мужчин, что составляет 0,8% всех случаев РМЖ и соответствует распространенности этой патологии среди мужчин во всем мире.
По стандартизованному и «грубому» показателям заболеваемости всего населения (27,04 и 44,7 случая на 100 тыс.) РМЖ в России занимает 2-е место после рака предстательной железы, но среди женщин он лидирует (47,39 случая на 100 тыс., что сопоставимо с мировыми значениями – 47,8 случая). При этом «грубый» показатель у женщин существенно выше: если в мире он составляет 58,5 случая на 100 тыс. человек, то в России – 82,77 случая.
Заболеваемость злокачественными новообразованиями и смертность от них в России в 2020 году
Отметим, что зарегистрированные в 2020 году в России показатели заболеваемости РМЖ заметно меньше, чем в 2019 году (65 468 и 74 490 случаев соответственно). Это может объясняться пандемией COVID-19, из-за которой многие медицинские организации были перепрофилированы под прием пациентов с этой инфекцией, а диспансеризация была приостановлена. Как следствие, доступ к медицинской помощи мог быть ограничен, а процесс выявления заболеваний затруднен. Практически все показатели заболеваемости РМЖ уменьшились в 2020 году по сравнению с 2019 годом как в целом по стране, так и в регионах.
В период с 2011 по 2019 год в России наблюдалась устойчивая тенденция к росту заболеваемости РМЖ, причем как абсолютных значений, так и стандартизованного и «грубого» показателей. Данный тренд прослеживается для всего населения и для женщин. Так, абсолютные цифры заболеваемости выросли с 57 875 до 74 490 среди всего населения и с 57 534 до 73 918 среди женщин. Стандартизованный показатель увеличился с 2011 по 2019 год с 26,30 до 30,67 случая на 100 тыс. человек среди всего населения и с 45,24 до 53,34 случая среди женщин. Только в 2020 году тенденция к росту сменилась падением показателей, что, как отмечено выше, по-видимому, связано с пандемией COVID-19.
Среди мужчин показатели заболеваемости РМЖ в последние 10 лет в целом растут, но с флуктуациями. Так, в 2012 и в 2019 годах стандартизованный показатель находился на одном уровне (0,56 случая на 100 тыс. человек), а «грубый» в те же годы несколько увеличился (0,76 и 0,84 случая в 2012 и 2019 годах соответственно). Абсолютные цифры заболеваемости среди мужчин имеют тенденцию к росту и варьируют в 2012–2020 годах в диапазоне от 501 до 630 случаев.
Динамика показателей заболеваемости рака молочной железы (С50) в России в 2011–2020 годах: абсолютные значения, а также «грубый» и стандартизованный показатели на 100 тыс. населения
Заболеванию наиболее подвержены люди старшей возрастной группы. Средний возраст заболевших в России женщин – 61 год (в 2010 году он составлял 60,8 года). Но сейчас при оценке трендов можно выделить отчетливую тенденцию к выявлению РМЖ в более позднем возрасте, чем 10 лет назад. Если в 2011 году большинство больных попадало в возрастные группы 50–54 года, 55–59 лет и 60–64 года, то в 2020 году – уже в группы 60–64 года и 65–69 лет и старше. Особенно выраженным был в 2020 году рост числа больных в возрасте 65–69 лет на фоне уменьшения доли пациентов в возрасте 50–59 лет. В то же время в 2020 году РМЖ выявлялся у молодых пациенток (от 30 до 34 лет) и женщин среднего возраста (от 35 до 44 лет) заметно чаще, чем в 2011 году.
Большинство заболевших мужчин в 2011 году находилось в возрасте 60–64 лет, а в 2020 году отмечено два пика заболеваемости – в возрастных диапазонах 60–64 года и 70–74 года. Заболеваемость за 10 лет значительно выросла в большинстве возрастных групп, но в целом отмечается тренд к выявлению РМЖ у мужчин в более старшем возрасте.
Динамика половозрастных показателей заболеваемости рака молочной железы (С50) в России в 2011 и 2020 годах: абсолютные значения, а также «грубый» показатель на 100 тыс. населения
На ранних стадиях
РМЖ все чаще выявляют на ранних стадиях. Если в 2011 году на I и II стадиях диагностировано 65% случаев, то в 2020 году – уже 72%. Это произошло благодаря более частому выявлению болезни на самой ранней (I) стадии. С 2011 по 2020 год этот показатель вырос с 18,5 до 26,9%. Одновременно уменьшилась доля больных с III стадией (с 24,8 до 19,6%) и IV стадией (с 9,1 до 8,1%).
Распределение впервые диагностированных случаев рака молочной железы (С50) по стадиям. Данные по России за 2011–2020 годы
Смертность и одногодичная летальность в России
Несмотря на целый ряд принятых мер, смертность от РМЖ в России остается высокой. Абсолютное число умерших от этого заболевания в 2020 году составило 21 634 человек, из них 21 462 женщины и 172 мужчины.
По стандартизованному и «грубому» показателям РМЖ в России, как и в мире, входит в пятерку злокачественных новообразований с самой высокой летальностью. Стандартизованный показатель смертности среди всего населения в 2020 году составил 7,89 случая на 100 тыс. человек, а «грубый» – 14,77.
Среди женщин стандартизованный показатель смертности от РМЖ (13,24 случая на 100 тыс.) в России в целом сопоставим с мировым значениями (13,6 случая), а «грубый» существенно его превышает (27,35 и 17,7 случая соответственно).
Абсолютные значения, стандартизованный и «грубый» показатели смертности от РМЖ постепенно снижаются на протяжении последних 10 лет. Описанные тренды наблюдаются как среди всего населения, так и среди женщин и мужчин по отдельности, что свидетельствует об эффективности мер по раннему выявлению и лечению этого заболевания.
Динамика смертности от рака молочной железы (С50) в России в 2011–2020 годах: абсолютные значения, а также «грубый» и стандартизованный показатели на 100 тыс. населения
Средний возраст умерших от РМЖ в России женщин в 2020 году составил 66,7 года, а в 2010 году он равнялся 64,8 года. Такое уменьшение доли относительно более молодых женщин в структуре умерших от РМЖ также можно рассматривать как положительный тренд, наблюдаемый в последние годы: если 10 лет назад большинство умерших было из возрастных групп 50–54 года, 55–59 лет, 60–64 года и 70–74 лет, то в 2020 году – в возрасте от 60 до 74 лет.
Как и в случае с заболеваемостью, в 2020 году в сравнении с 2011 годом отмечен рост числа смертей в возрасте 65–69 лет на фоне выраженного снижения числа смертей в возрасте от 50 до 59 лет. Молодые пациентки (от 30 до 34 лет) и женщины среднего возраста (от 35 до 44 лет) умирали от РМЖ примерно с той же частотой, как и в 2011 году. Но в пересчете на «грубый» показатель на 100 тыс. женщин смертность в 2020 году в сравнении с 2011 года снизилась практически во всех возрастных группах.
Большинство умерших от РМЖ мужчин в 2011 году были в возрасте 60–64 лет, а в 2020 году – в возрастных группах 60–64 года, 65–69 лет и 70–74 года. Смертность сократилась в большинстве возрастных групп, а мужчины молодого возраста (до 40 лет) вообще перестали умирать от этого заболевания, как это случалось 10 лет назад. В целом существенно сократилась смертность среди мужчин в возрасте до 60 лет. «Грубый» показатель смертности от РМЖ среди мужчин уменьшился практически во всех возрастных группах.
Динамика половозрастных показателей смертности от рака молочной железы (С50) в России в 2011 и 2020 годах: абсолютные значения и «грубый» показатель на 100 тыс. человек
Отмеченные тренды отражает еще один показатель. В течение последних 10 лет снижается кумулятивный риск смерти от злокачественных новообразований. Так, если в 2010 году он составлял 1,97%, то в 2020 году – уже 1,54%. Данный показатель рассчитывается только для женщин моложе 74 лет (это является ограничением расчетов).
Кумулятивный риск смерти от рака молочной железы (С50) в России в 2010–2020 годах для женщин в возрасте моложе 74 лет (%)
Летальность от РМЖ на первом году с момента установления диагноза – одна из самых низких среди всех злокачественных новообразований. За последние 10 лет она существенно сократилась – с 8,7% в 2011 году до 5,2% в 2020 году.
Одновременно прослеживается тренд к увеличению доли пациентов, находящихся на учете на конец года в течение 5 лет и более, хотя этот рост нельзя назвать быстрым. За последние 10 лет доля таких больных возросла с 57,6 до 63,1%.
Динамика летальности от рака молочной железы (С50) на 1-м году с момента постановки диагноза (%) и доля пациентов, находящихся на учете на конец года в течение 5 лет и более (% от состоящих на учете). Данные по России за 2011–2020 годы
Заболеваемость в регионах
Самый высокий стандартизованный показатель заболеваемости РМЖ среди всего населения (лиц обоего пола) выявлен в Костромской (35,88 случая на 100 тыс. человек), Самарской (33,75 случая) и Иркутской (32,26 случая) областях, «грубый» показатель – в Костромской (61,34 случая), Самарской (58,45 случая) и Орловской (55,69 случая) областях.
Основной вклад в показатели заболеваемости вносят женщины. Соответственно, среди них эти показатели существенно выше. Так, по стандартизованному и «грубому» показателям заболеваемости среди женщин лидируют Костромская (63,34 и 113,27 случая на 100 тыс. соответственно) и Самарская области (58,26 и 106,76). Среди мужчин стандартизованный и «грубый» показатели заболеваемости выше всего в Амурской (1,76 и 2,15 соответственно), Ростовской (1,06 и 1,74) и Владимирской (1,01 и 1,63) областях.
Самые низкие показатели заболеваемости среди всего населения и среди женщин отмечены в Республике Саха (Якутия) и Дагестане. Среди мужчин – в Ульяновской области, Хабаровском крае, Чечне. При этом в Калининградской, Камчатской, Мурманской, Сахалинской и Томской областях, а также в Республике Адыгея и Якутии в 2020 году не выявлено ни одного случая РМЖ среди мужчин.
За последние 10 лет среднегодовой темп роста (CAGR) абсолютных цифр заболеваемости РМЖ среди всего населения и среди женщин составил 1,4%, но среди мужчин заболеваемость растет значительно быстрее: CAGR равен 4,5%. Стандартизованные показатели заболеваемости растут медленнее: 0,3% среди всего населения, 0,5% среди женщин и максимальные 2,8% среди мужчин.
В целом снижение заболеваемости от РМЖ среди женщин выявлено в 7 регионах нашей страны. В 55 регионах показатель колеблется на 1%. Значительно увеличилась заболеваемость в 32 регионах. Среди всего населения рост заболеваемости отмечен в 20 регионах, стагнация – в 64 регионах, а снижение – в 10.
Наиболее заметный рост стандартизованного показателя заболеваемости РМЖ среди всего населения и среди женщин наблюдается в Костромской области, Республике Крым, Волгоградской области и Республике Карелия. А самое заметное снижение отмечено в Адыгее, Республике Саха (Якутии), Севастополе и Камчатском крае. Среди мужчин наиболее быстрый рост стандартизованного показателя выявлен в Ленинградской, Кемеровской, Ростовской, Псковской и Липецкой областях, а отчетливое снижение отмечалось в Ханты-Мансийском а.окр., Тамбовской области, Кабардино-Балкарии, Ивановской, Смоленской, Костромской, Иркутской, Ульяновской областях и Хакасии.
Заболеваемость раком молочной железы (С50) в регионах России в 2011–2020 годах: абсолютные значения, а также «грубый» и стандартизованный показатели на 100 тыс. населения
Источник. Данные приведены без учета регионов, в которых регистрируют менее 1 тыс. случаев впервые выявленных злокачественных новообразований в год из-за низкой плотности населения (Чукотский а.окр., Ненецкий а.окр., Республика Алтай, Магаданская область, Еврейская а.обл., Республика Тыва, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия).
Смертность в регионах
В трех регионах России – Тульской области, Адыгее и Санкт-Петербурге – складывается наиболее сложная ситуация со смертностью. Эти регионы лидируют по уровню смертности как среди всего населения, так и среди женщин, причем не только по стандартизованным, но и по «грубым» показателям. Так, Тульская область лидирует по показателям смертности от РМЖ среди всего населения (стандартизованный – 10,38 случая на 100 тыс. человек, «грубый» – 23,39 случая) и по «грубому» показателю смертности среди женщин (42,44 случая), Республика Адыгея – по стандартизованному показателю смертности среди женщин (17,33 на 100 тыс. человек). Среди мужчин смертность от РМЖ по стандартизованным значениям выше всего в Амурской области (0,75 случая), а по «грубым» – в Пензенской области (0,84 случая).
Самые низкие стандартизованные показатели смертности среди всего населения и среди женщин выявлены в Мордовии (3,58 и 6,35 случая на 100 тыс. соответственно), а «грубые» – в Ямало-Ненецком а.окр. (4,76 и 9,44 случая).
За последние 10 лет смертность от РМЖ снижается. Cреднегодовой темп роста (CAGR) абсолютных цифр смертности от РМЖ за 2011–2020 годы составил −0,9% для всего населения и для женщин и −3,3% для мужчин. Стандартизованные показатели смертности снижаются более заметно: −2,5% для всего населения, −2,4% для женщин и −5,6% у мужчин (это максимальное значение).
В целом снижение смертности от РМЖ среди мужчин выявлено в 63 регионах нашей страны, среди женщин и всего населения – в 75 регионах. В 16 и 14 регионах соответственно смертность среди женщин и мужчин колеблется на 1%. За последние 10 лет показатель вырос лишь в 3 регионах среди женщин и в 17 регионах среди мужчин.
Наиболее заметный рост стандартизованного показателя смертности от РМЖ среди всего населения с 2011 по 2020 год наблюдается в Новгородской области и Забайкальском крае, а среди женщин – в Чечне и Новгородской области. Среди мужчин выраженный рост смертности отмечен за последние 10 лет во Владимирской, Ростовской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Воронежской области. Отчетливое снижение смертности наблюдалось в Ярославской, Московской, Калужской и Астраханской областях. В целом ряде регионов (в 27) в 2020 году не было выявлено ни одного случая смерти от РМЖ среди мужчин.
Смертность от рака молочной железы (С50) в различных регионах России в 2011–2020 годах: абсолютные значения, а также «грубый» и стандартизованный показатели на 100 тыс. населения
Источник. Данные приведены без учета регионов, в которых регистрируют менее 1000 случаев впервые выявленных злокачественных новообразований в год из-за низкой плотности населения (Чукотский а.окр., Ненецкий а.окр., Республика Алтай, Магаданская область, Еврейская а.обл., Республика Тыва, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия).
Одногодичная летальность и доля состоящих на учете в регионах
По уровню летальности от РМЖ на 1-м году с момента установления диагноза лидируют Севастополь (11,7%), Кабардино-Балкария (10,9%), Камчатский край (7,2%), Смоленская область (7,1%) и Дагестан (7,0%). Ниже всего данный показатель в Карачаево-Черкесии (1,9%).
Наиболее велика доля пациентов с диагнозом РМЖ, находящихся на учете 5 и более лет, в Кемеровской (70,0%), Курганской области (67,9%) и Адыгее (67,8%). Хуже всего обстоят дела в Дагестане (51,8%) и Чечне (50,1%).
В большинстве регионов летальность на 1-м году с момента установления диагноза за 10 лет снизилась, а доля пациентов, находящихся на учете 5 и более лет, увеличилась. Исключениями стали Cевастополь, Чечня, Камчатский край, Хабаровский край и Крым, в которых отмечен рост летальности от РМЖ на 1-м году с момента постановки диагноза. В Кемеровской и Смоленской областях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии показатель стагнирует.
Сокращение доли пациентов с диагнозом РМЖ, находящихся на учете 5 и более лет, выявлено только в Севастополе, в то время как в 46 регионах показатель практически не меняется, а во всех остальных – растет.
Летальность от рака молочной железы (С50) на 1-м году с момента установления диагноза (%) и доля пациентов, находящихся на учете на конец года в течение 5 лет и более (% от состоящих на учете). Данные по различным регионам России за 2020 год
Источник. Данные приведены без учета регионов, в которых регистрируют менее 1 тыс. случаев впервые выявленных злокачественных новообразований в год из-за низкой плотности населения (Чукотский а.окр., Ненецкий а.окр., Республика Алтай, Магаданская область, Еврейская а.обл., Республика Тыва, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия).
Прогноз на 2040 год
По прогнозам, распространенность РМЖ будет расти. Общее число больных в мире может увеличиться с 2,26 млн в 2020 году до 3,19 млн человек к 2040 году, т. е. в 1,4 раза. К 2040 году ожидается также заметный рост смертности – в 1,5 раза (до 1,04 млн с 685 тыс. в 2020 году).
В России заболеваемость РМЖ увеличится с 65,5 тыс. в 2020 году до 76,3 тыс. человек к 2040 году. Смертность от этой патологии также будет расти – с 21,6 тыс. в 2020 году до 25,6 тыс. к 2040 году.
Статистика лечения
Лечение РМЖ, как правило, комплексное. Лишь около 35,4% пациентов нуждаются исключительно в хирургическом вмешательстве (это зависит от своевременности выявления заболевания). В то же время нельзя не отметить тот факт, что за последние 10 лет этот показатель заметно вырос: с 29,7% в 2011 году до 35,4% в 2020 году. Соответственно, за рассматриваемый период несколько уменьшилась доля больных, которым назначается комбинированное или комплексное лечение (операция + лекарственная терапия). С 2011 по 2020 год доля таких пациентов уменьшилась с 69,5 до 64,5%.
Динамика доли больных раком молочной железы (С50), прошедших только хирургическое лечение, и доли больных, прошедших комбинированное или комплексное лечение (кроме химиолучевого). Данные по России за 2011–2020 годы
В 2020 году лечение РМЖ теми или иными методами прошли 36 707 пациентов, в том числе комбинированную или комплексную терапию – 23 676 человек. Столь широкий охват комплексным лечением свидетельствует о том, что лекарственная терапия играет важную роль для больных РМЖ. Большинство пациентов, которым было проведено комбинированное или комплексное лечение, проживают в Калининградской области, Карачаево-Черкесии, Забайкальском крае, Удмуртии и Ульяновской области.
Доля больных раком молочной железы (С50), прошедших только хирургическое лечение (%), и доля пациентов, прошедших комбинированное или комплексное лечение (кроме химиолучевого, %). Данные по регионам России за 2020 год




















