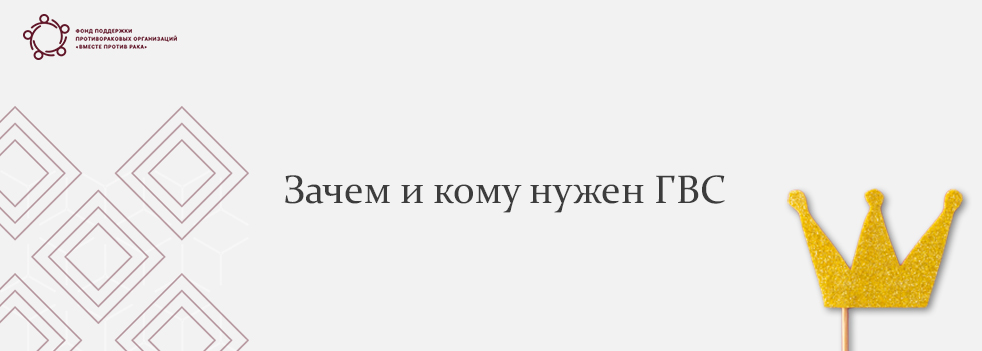
Немного истории, или Назад в СССР
Институт главных медицинских специалистов (ГВС) при органах здравоохранения – советское изобретение. Как и сам Минздрав. Первое в мире министерство здравоохранения (до 1946 года – Народный комиссариат) было создано в 1918 году в Советской России, строившей «систему Семашко» с ее централизованной, иерархичной и единообразной для всей страны структурой. По первоначальному замыслу все медицинские учреждения должны были расположиться под крылом Наркомздрава, а граждане получать помощь строго по территориальному принципу. Однако почти сразу несколько ведомств сумели вырваться из сети новорожденного наркомата и создали собственные медицинские службы.
Среди них – Рабоче-крестьянская Красная армия. Учрежденное еще в царские времена Главное военно-санитарное управление армии, встав под красные флаги с серпом и молотом и одновременно – под начало Наркомздрава, уже в 1920 году перешло в двойное подчинение: Наркомздрава и Наркомвоенмора (после череды переименований – Министерства вооруженных сил СССР). Такое положение продлилось недолго: в 1929 году военно-санитарную службу изъяли из компетенции Наркомздрава, и департамент, отвечающий за военную медицину, стал элементом исключительно военного ведомства. После чего, начиная с 1930-х годов, в системе руководства армейским здравоохранением стали появляться главные медицинские специалисты. Самым знаменитым из них был, пожалуй, главный хирург Красной Армии Николай Бурденко.
Зачем это было сделано? Советское чиновничество межвоенного периода не всегда отличалось профессионализмом и образованностью, и люди в погонах не были исключением. Высококлассные врачи, обладавшие к тому же управленческим опытом и талантом, назначенные главными специалистами, стали чем-то вроде советников с обширными полномочиями, а при решении сложных организационных задач – правой рукой наркомов.
Во время Великой Отечественной войны сложившаяся система военно-медицинской службы показала высокую эффективность. Некоторые ее элементы было решено перенести в гражданское здравоохранение. В 1949 году Минздрав СССР издал Положение о главных внештатных специалистах, но к тому времени несколько врачей уже выполняли эту работу. Как, например, главный онколог Минздрава СССР Александр Савицкий.
Номенклатура медицинских специализаций ГВС в первое время была достаточно короткой, как и именной список, — порядка двух десятков человек, каждый из которых был весомой фигурой и в профессии, и в структуре министерства. Со временем своими ГВС обзавелись минздравы союзных республик, потом здравуправления краев, областей, города Москвы. Сегодня в одном только Минздраве России насчитывается 90 ГВС, свыше 8 тысяч работают во всех субъектах Федерации, около 800 – в федеральных округах и больше тысячи в административных округах столицы.
Онкологию разделили на двоих
С 2018 года на особом положении находятся кардиология и онкология. Каждое из этих медицинских направлений, в силу их значимости в статистике заболеваемости и причин смертности, Минздрав распределил между двумя специалистами по территориальном принципу.
Главный внештатный онколог Иван Стилиди – д.м.н., профессор, академик РАН, директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина – отвечает за Северо-Западный, Южный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Андрей Каприн – д.м.н., профессор, академик РАН, гендиректор НМИЦ радиологии – за Центральный, Приволжский и Северо-Кавказский. (Между двумя главными кардиологами округа распределены иначе.) Мы не знаем наверняка, чем руководствовался Минздрав, поделив округа между главными онкологами именно таким образом. Но по количеству субъектов Федерации и по численности населения «наборы» почти совпадают.
Каждый из главных внештатных онкологов возглавляет свой НМИЦ, в их составе есть Центры координации онкологической помощи регионам. Они заключают договоры с правительствами регионов, на основании которых региональные врачи проходят обучение и получают консультации. Таким образом, в распоряжении Каприна и Стилиди (помимо арсенала, которым они располагают, руководя НМИЦ) имеется штат сотрудников, реализующих обязанности главного внештатного специалиста.
Кнуты и пряники ГВС
Экскурс в историю не случаен. Эволюция компетенций ГВС при органе исполнительной власти идет в русле бюрократической логики. Нестандартное решение экстренной задачи, родившееся в условиях административного стресса, со временем становится бюрократической обыденностью: встраивается в существующий механизм и унифицируется под него.
Судя по годовым отчетам, «федеральные» ГВС сосредоточены на разработке нормативных документов (у иных в годовом багаже по 20-30 инициатив) и на подготовке ответов и заключений по запросам министерства. Некоторую долю их времени отнимают комиссии и экспертные советы. Количество консультаций и командировок в регионы разнится от нескольких единиц до трех десятков.
Федеральный Минздрав, в отличие от региональных, не предписывает своим «внештатникам» параметры отчетности, поэтому на выходе он имеет очень разные документы – по форме и объему.
Чем выше «штатная» должность ГВС Минздрава России, тем насыщеннее проблематика, о которой он сообщает министерству. Руководители Национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ) – операторы своего «рынка», они напрямую, в силу должности формулируют «стратегию развития соответствующего медицинского направления и тактические решения по ее реализации» – это первая задача главного внештатного специалиста, поставленная приказом № 444. Очевидно, ГВС – заведующие кафедрами и деканы – скорее наблюдатели, чем деятели.
Большинство же ГВС, особенно областного уровня, в свободное от основной работы время делают примерно то же, что и сотрудники «их» минздравов: выбивают отчеты от нижестоящих, пишут собственные, собирают статистику, прорабатывают нормативные документы ведомства. Например, на сайте главного внештатного стоматолога одной из областей напоминания низовым медучреждениям о необходимости сдачи отчетов составляет процентов восемьдесят от всех публикаций, посвященных работе этого «внештатника».
Например, приказом Минздрава Рязанской области главным врачам медицинских организаций, в которых трудятся главные внештатные специалисты, предписано установить последним надбавку к должностному окладу в размере 30 % и освобождать их от основной работы на один день в месяц. В Республике Коми ГВС поощряют надбавкой за интенсивность и высокие результаты работы: до 200 % от организации, в которой трудится специалист, плюс дополнительно от Минздрава Коми. В случае некачественного исполнения обязанностей главного внештатного специалиста такой врач лишается этих денег.
Весьма изобретательно подошли к вопросу о стимулировании «своих» ГВС в Астраханской области. Внештатным специалистам, не являющимся руководителями медицинских организаций, назначен повышающий коэффициент к должностному окладу 0,15. Областной Минздрав не отвечает за зарплатные ведомости – это компетенция руководителя организации, поэтому соответствующая строка распоряжения адресована им. Но как стимулировать ГВС, если он, скажем, главврач больницы? Для них свой метод: «Установить, что исполнение функций главных внештатных специалистов, занимающих должности руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству, учитывается при оценке показателей эффективности деятельности медицинских организаций, подведомственных министерству, и показателей эффективности работы их руководителей».
Примечательно, что из 91 ГВС Астраханского Минздрава начальников (главврачей больниц и директоров федеральных медицинских центров) только девять человек – это нетипичная ситуация.
Выполняя предписание регионального Минздрава о денежном вознаграждении ГВС, руководитель медицинского учреждения, в котором работает специалист (особенно если он – одно лицо, как в описанном ниже случае), должен тщательно продумать, из какого именно бюджетного кармана можно извлечь средства. В Республике Саха (Якутия) 27 января 2021 года постановлением № 16-316/2021-(16-3967/2020) Девятого кассационного суда общей юрисдикции была привлечена к административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств главврач Республиканского центра лечебной физкультуры и спортивной медицины. Она же – главный внештатный специалист соответствующего профиля Минздрава республики. Десятипроцентная надбавка к окладу начислялась из средств государственной субсидии, не предназначенной для таких целей. Незаконно полученные 20 тысяч рублей пришлось вернуть в виде штрафа.
Ответственность только перед «своим» министром
Ответственность за свою деятельность ГВС несет только перед руководителем ведомства, чьим приказом он назначен. Хотя в январе 2021 года между Минздравом России и Национальной медицинской палатой было заключено новое соглашение, в соответствии с которым медицинское сообщество может оказывать влияние на выбор кандидатур, последнее слово все равно остается за министерством. В случае недобросовестного исполнения специалистом обязанностей, Минздрав может отказаться от сотрудничества с ГВС. Или наказать его рублем, как в Коми или в Рязанской области.
ГВС обладают рядом признаков должностного лица, например, в тех субъектах Российской Федерации, где они работают на возмездной основе и при этом в число их функций входят организационно-распределительные. В такой ситуации чисто теоретически их решения могут повлечь уголовную и административную ответственность. Однако, это всего лишь вероятность, судебной практики нет. Даже когда ГВС вносит предложения, влекущие серьезные последствия, – например, по разработке стандарта оказания медицинской помощи или порядка назначения лекарственных препаратов – он не несет ответственности как автор: все претензии к минздраву, выпустившему нормативный документ, и к руководителю, поставившему подпись.
В списке обязанностей ГВС, как и в вопросе оплаты, – такой же парад суверенитетов. Существенная часть задач и функций ГВС разных уровней и регионов схожа: внештатные специалисты работают на цели, поставленные перед государственным здравоохранением. Они оценивают состояние службы и динамику здоровья населения по своему профилю, анализируют кадровую ситуацию, содействуют продвижению новых технологий, методов лечения и диагностики, рецензируют и инициируют нормативные документы и так далее. Но немало и различий. В одних регионах минздравы требуют от ГВС вести личный прием граждан, в других нет. Где-то им напрямую предписывают разбирать жалобы, поступившие в министерство от больных, а где-то такого нет и в помине.
Довольно экзотично выглядит один из пунктов положения о ГВС Республики Коми: «Представлять интересы Министерства здравоохранения Республики Коми во всех органах государственной власти и органах местного самоуправления, административных, судебных и правоохранительных органах, в том числе в органах дознания, предварительного следствия, прокуратуре, подразделениях судебных приставов, во всех судах судебной системы Российской Федерации».
Очень выразителен приказ Минздрава Республики Башкортостан. Положение о главном внештатном специалисте в большинстве регионов – контурный документ, но в Башкирии – инструкция. Например, такой пассаж: «1.8. Для организации практической лечебно-диагностической и консультативной помощи пациентам по направлению Минздрава Республики Башкортостан главный внештатный специалист представляет по единому защищенному домену Минздрава Республики Башкортостан @doctorrb.ru (по персональному электронному адресу, выданному ГКУЗ РБ МИАЦ) в срок до 15 января текущего года график проведения консультативного приема пациентов с указанием дней недели, базы проведения консультативного приема, контактных телефонов (сотовый, рабочий), для обеспечения возможности предварительной записи на консультативный прием. В случае появления изменений в графике проведения консультативного приема, немедленно извещает соответствующий отдел Минздрава Республики Башкортостан, курирующий данную службу».
Тем же приказом утвержден примерный план работы, форма отчета, критерии оценки эффективности ГВС в баллах от минус двух до плюс четырех. Пожалуй, в этой части Башкирии нет равных.
Дублеры минздравов: миссия невыполнима?
Большинство функций ГВС Минздрава России, изложенных в основополагающем для них приказе № 444, по сути дублируют обязанности самого Минздрава: анализировать информацию о состоянии отрасли, разрабатывать нормативные акты, паспорта специальностей, профстандарты и т. д. И только четыре функции из 21 касаются субъектов Российской Федерации.
ГВС Минздрава России предписано «проведение оценки эффективности деятельности главных внештатных специалистов субъектов Российской Федерации и федеральных округов по соответствующей специальности». Но ни «центральный», ни местные приказы не вменяют «регионалам» в обязанность держать ответ перед Москвой.
И как же главным специалистам Минздрава России выполнить приказ министра – провести оценку эффективности деятельности ГВС субъектов Федерации, если «регионалы» подчиняются, напомним, только «своим» министрам? Вот ответ на этот вопрос в приказе № 444: «федерал» имеет право «привлекать главных внештатных специалистов субъектов Российской Федерации и федеральных округов… к решению вопросов» – но с их согласия, а также запрашивать и получать необходимую для работы информацию.
Судя по отчетам «федералов», опубликованным на сайте Минздрава, они все же получают отчеты от коллег из субъектов Федерации – возможно, копии тех, которые первым делом отсылаются местным минздравам.
Отчетность – ключевой индикатор эффективности чего бы то ни было в бюрократической парадигме. Приложением к приказу о ГВС в ряде регионов установлена форма отчета – порой очень детализированная. То есть налицо же подход, что и к оценке деятельности штатных госслужащих.
Одну из ближайших публикаций мы посвятим подробному изучению этого бюрократического жанра: отчетности ГВС. Попробуем отыскать рациональное зерно в канцелярском ритуале, который тысячи ГВС исправно исполняют каждый год.
Иерархия с трещиной: каждый сам по себе
Тенденция к обюрокрачиванию ГВС неизбежна в силу начавшейся в 1990-е годы децентрализации системы здравоохранения и бюджета. Однако экстраполяция административной вертикали «федеральный центр – федеральный округ – субъект Федерации» на институт ГВС будет в целом ошибочной, поскольку он «заточен» на свой Минздрав.
Прямая связь существует только между первым и вторым звеном цепочки: кандидатуру «окружного» специалиста представляет Минздраву «федеральный» ГВС соответствующего профиля, он же является непосредственным руководителем своей креатуры и принимает его отчеты (в соответствии с приказом Минздрава России № 655). Что логично: оба института учреждены одним ведомством – федеральным Минздравом.
19 апреля Минздрав России обновил приказ о ГВС в федеральных округах в части, касающейся функций этих специалистов. Теперь помимо того, что они могут участвовать в разработке порядка и стандартов оказания медицинской помощи, «окружные» ГВС получают право готовить предложения к программе госгарантий бесплатной медпомощи. Кроме того, ГВС в федеральных округах отныне будет составлять методические рекомендации для региональных минздравов. Но станут ли слушать этих докторов республиканские или областные чиновники, коль скоро они не связаны между собой никакими формальными обязательствами?
Сам федеральный Минздрав уже не приказывает, а всего лишь рекомендует в обновленном приказе министерствам субъектов Федерации «обеспечить координацию работы главных внештатных специалистов субъектов Российской Федерации с главными внештатными специалистами в федеральных округах». Встречное движение «снизу вверх» – большая редкость. Нам удалось увидеть его в приказе о главных внештатных специалистах Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. В перечне функций ГВС есть строка: «…осуществление взаимодействия с внештатными специалистами Приволжского федерального округа и Министерства здравоохранения Российской Федерации».
Нельзя сказать, что ГВС регионов совсем оторваны от центра. ГВС из Москвы и федеральных округов время от времени наносят визиты в регионы – в перечне функций ГВС это называется «методической помощью». Все региональные ГВС входят в состав профильных комиссий по соответствующим медицинским направлениям. Комиссию формирует и возглавляет ГВС Минздрава России. Правда, заседания проводятся всего лишь два раза в год, а для кворума достаточно присутствия половины членов комиссии. Безусловно, врачу из Хабаровского края должно быть приятно хотя бы раз в году за казенный счет слетать в Москву. Но ради чего? Что происходит на заседаниях комиссий – читайте в следующей публикации.
Случается, «региональные» ГВС саботируют кадровые решения вышестоящих инстанций. Несколько лет назад произошел инцидент на почве назначения ГВС Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе по клинической лабораторной диагностике. Насколько можно судить по официальной переписке, «федеральный» ГВС представил тогдашнему министру здравоохранения Веронике Скворцовой одну кандидатуру, но в приказ попала другая, пришедшая откуда-то из регионов. В связи с этим министерству пришлось рассылать в региональные подразделения циркуляр с напоминанием о том, что не следует предлагать «окружных» ГВС в обход «федеральных».
Таким образом, видно, что институт ГВС четко не структурирован, их обязанности различаются от региона к региону, как и права и оплата за труд. И благая идея – «приставить» к чиновникам, которые по закону могут и не иметь медицинского образования, высокопрофессионального врача-советника, понимающего и отстаивающего интересы профессионального сообщества и пациентов, помогающего вывести российское здравоохранение на современный уровень, реализуется в зависимости от авторитета самого ГВС и его понимания своей ответственности.
В дальнейших публикациях мы постараемся ответить на вопрос, возможно, главный в этой теме: решает ли институт ГВС основную поставленную перед ним задачу или же под прикрытием бюрократических атрибутов ГВС устраняют собственные проблемы и упрощают жизнь своих патронов из Минздрава?


- академик РАН
- доктор медицинских наук
- профессор
- главный внештатный онколог Минздрава России

- академик РАН
- доктор медицинских наук
- профессор
- академик РАО
- заслуженный врач Российской Федерации
- директор МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
- главный внештатный онколог Минздрава России
- президент Ассоциации онкологов России

- академик РАН
- доктор медицинских наук
- профессор
- академик РАО
- заслуженный врач Российской Федерации
- директор МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
- главный внештатный онколог Минздрава России
- президент Ассоциации онкологов России

- академик РАН
- доктор медицинских наук
- профессор
- главный внештатный онколог Минздрава России

















 23/04/2024, 13:12
23/04/2024, 13:12


===…Главный внештатный специалист: миссия, должность или красивый титул? …===
Сегодня это штамп…
Личного доверия САМОГО!!!!
Во времена СССР ответственный титул и большая дополнительная нагрузка!
В пермском крае гвс – бесплатная прислуга минздрава
У нас Оплата 7500, с накрутками -15000
За 14 лет выполнения обязанностей главного внештатного специалиста ни разу, ни копейки за это не получила, я вообще только в этой статье впервые прочитала, что где-то за это платят! В своей больнице работала как обычный врач с теми же должностными обязанностями, а функции внештатника исполняла в свободное от основной работы время в ущерб личному времени ( в выходные, вечером вместо отдыха). Если приглашали на ТВ или радио, то вначале спрашивала разрешение у главврача, т.к. было чревато наказанием сотрудничество со СМИ ( даже если интервью было на чисто медицинскую тематику или профилактику заболеваний по профилю).
Я с 2015 года главный специалист облздрава- рядовой врач. Получаю за это примерно 2 000 руб. -нагрузка непомерная – я должна выполнить свою работу , как врач + консультировать всех желающих , как правило недовольных и скандальных пациентов, сложных пациентов , направленных врачами. Ответить на жалобы, обеспечить работу врачебных комиссий в военкомате( при недоукомплектованности 50%), подготовить массу отчетов, вести просветительскую работу по пропаганде здорового образа жизни( написание статей в местные СМИ). Встречать и провожать комиссии из НМИЦ ( с подготовкой отчетов для них , а затем по их замечаниям , для облздрава) и ещё много чего , на что нужно было «ответить вчера до 14 час»)) при этом постараться не вызвать гнева зав.Отделения и с разрешения главного врача .
Все время спрашиваю себя – какой смысл в этой работе и- зачем это мне нужно?…
Вообще лицо, находящееся вне штата не должно получать зарплату, а работать на общественных началах. Если ты главврач, то с какого перепугу ты еще и внештатник – полный бред. А сейчас внештатник это синекура для лиц приближенных к “сапогу императора”. причем для большинства, которые при министерствах и ведомствах с весьма неплохим доходцем