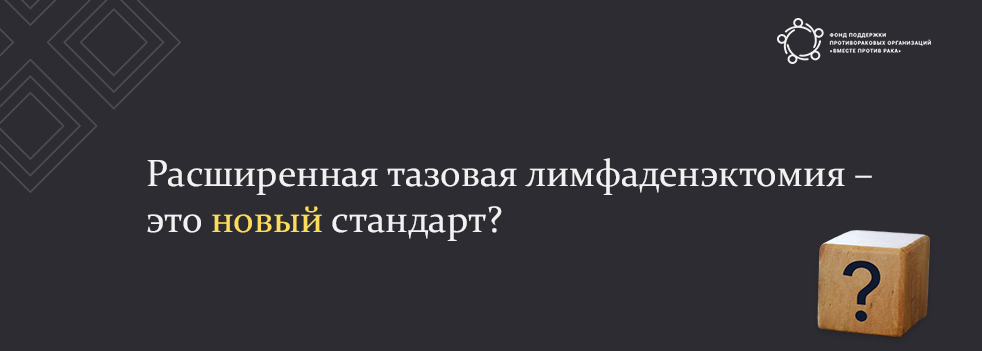
На авторитетном англоязычном веб-ресурсе Medscape для врачей и других специалистов сферы здравоохранения вышла статья, наделавшая много шума в профессиональном сообществе. По сути, встал вопрос о пересмотре всех ныне действующих стандартов лечения рака предстательной железы (РПЖ).
Рак прогрессирует во всем мире
Рак предстательной железы – одно из наиболее распространенных злокачественных новообразований у мужчин. Ежегодно в мире выявляется свыше 400 тыс. случаев этой патологии. В ряде стран в структуре онкологической заболеваемости он занимает лидирующие позиции.
Согласно данным общемировой статистики, РПЖ регистрируется более чем у 1 млн мужчин ежегодно и является причиной почти 10 % смертей от рака. В США РПЖ является 2-й по частоте причиной смерти от злокачественных новообразований.
В России заболеваемость РПЖ занимает лидирующие позиции, от него страдает около 6 % мужского населения. У мужчин старше 60 лет это наиболее часто встречающееся злокачественное новообразование. Особенность РПЖ в России и других странах СНГ – высокая частота поздней диагностики, когда опухоль диагностируют на III–IV стадии, в то время как успех лечения зависит в первую очередь от раннего выявления этой патологии.
Зачем удалять лимфоузлы?
На сегодняшний день главным методом лечения РПЖ на ранних стадиях является радикальная простатэктомия – удаление предстательной железы вместе с семенными пузырьками. Часто также применяется тазовая лимфаденэктомия, или лимфодиссекция – удаление группы регионарных лимфоузлов.
Зачем это делается? Считается, что при злокачественных опухолях высок риск диссеминации опухолевых клеток с током лимфы в лимфатический узел, что ведет к формированию нового опухолевого очага – так называемое лимфогенное метастазирование. Чтобы предупредить дальнейшее прогрессирование опухолевого процесса, проводится регионарная лимфаденэктомия – удаление группы лимфоузлов.
«Почему именно лимфатические узлы так волнуют онкологов? – рассуждает д.м.н. Кирилл Нюшко, ведущий научный сотрудник Института урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина. – Дело в том, что у пациентов с промежуточным риском вероятность развития опухолевого процесса в лимфоузлах достигает 10–15 %, а у больных с высоким риском прогрессирования, согласно современным данным, такая вероятность может достигать 60 %. Это очень много, поэтому, согласно действующим стандартам, в таких случаях требуется удаление лимфоузлов».
Онкология прогрессирует
Онкоурологи констатируют: все чаще им приходится видеть молодых пациентов, у которых наблюдается высокий риск прогрессирования заболевания. Это связано с поздней диагностикой РПЖ: далеко не все мужчины определяют уровень ПСА, многие даже не знают, что это такое и зачем это нужно. Однако количество онкологических заболеваний растет и помимо этого.
На сегодняшний день в зависимости от результатов ПСА, биопсии и других предоперационных исследований всех пациентов с РПЖ делят на тех, кто относится к высокой и низкой группам риска наличия метастазов в регионарных лимфоузлах.
Считается, что пациенты из второй группы имеют такой риск ниже 5 %. «Им лимфаденэктомия вообще не нужна, и мы ее обычно не выполняем, – говорит чл.-корр. РАН Всеволод Матвеев, заместитель директора НМИЦ им. Н.Н. Блохина по научной и инновационной работе. – А пациентам с высоким риском метастазов, выше 5 %, если и выполнять лимфаденэктомию, то именно расширенную, потому что при обычной лимфаденэктомии мы пропускаем 50 % метастазов. Таким образом, имеет смысл только расширенная лимфаденэктомия. Это действующий стандарт на сегодняшний день».
Лимфоузлы уточнят стадию рака
Однако не все так просто и однозначно. Встречаются спорные и неоднозначные случаи, когда все зависит от конкретной ситуации и состояния пациента. «Есть очень пожилые пациенты, для которых любое осложнение может стать фатальным, – делится опытом Всеволод Матвеев. – Бывают пациенты, у которых в малом тазу выражены спаечные процессы после травм, переломов, предыдущих операций, и эта процедура может усугубить их состояние. Тогда на весы встает риск развития осложнений и лимфодиссекция, которая может ничего не дать. Тут решение принимает врач».
По сравнению со стандартной, расширенная тазовая лимфаденэктомия, при которой удаляется большее количество лимфоузлов из большего числа анатомических зон, выявляет больше метастазов и соответственно обеспечивает более точное стадирование. «Но влияет ли это на отдаленные результаты лечения и конкретно на выживаемость пациентов, остается непонятным, – подводит итог Всеволод Матвеев. – Убедительных данных у нас нет, поэтому вопрос остается открытым».
А если не влияет, возникает вопрос, зачем это делать? Ведь эта процедура увеличивает количество негативных последствий, осложнений радикальной простатэктомии. Чаще всего это лимфоцеле, лимфокисты, отеки нижних конечностей. Это удлиняет послеоперационный период, усложняет реабилитацию. Поэтому далеко не все выполняют лимфаденэктомию из-за боязни этих осложнений.
Что говорят исследования?
Исследований, которые пролили бы свет на эту ситуацию, пока недостаточно. Единственное рандомизированное исследование было проведено в Memorial Sloan Kettering Cancer Center в Нью-Йорке – онкоцентре, который занимается лечением и изучением рака в США. В ходе этого исследования было проведено сравнение результатов обычной и расширенной тазовой лимфаденэктомии при раке ПЖ.
Именно результаты этого исследования и обсуждаются в приведенной выше статье. Ученые задались вопросом, дает ли преимущество расширенная тазовая лимфаденэктомия по сравнению со стандартной при РПЖ. Приводятся данные исследований, в результате которых «не обнаружено существенной разницы в частоте биохимического рецидива между испытуемыми группами».
Встает логичный вопрос: нужно ли делать расширенную лимфаденэктомию, если разница не прослеживается? А нужно ли делать эту весьма инвазивную процедуру вообще?
Исследование некорректно
«Однако у меня и моих коллег много вопросов к этому исследованию, – говорит Кирилл Нюшко. – Дело в том, что разница в среднем количестве удаляемых лимфоузлов в первой и второй группах была весьма незначительной. При стандартной лимфаденэктомии удаляли в среднем 12 лимфоузлов, а при расширенной – 14. Это говорит о том, что во всех группах больных выполнялся примерно один и тот же объем лимфодиссекции, и поэтому сравнивать результаты этих исследований некорректно».
Одна из главных проблем заключается в том, что у большинства пациентов в обоих исследованиях был рак низкого или среднего риска, а от расширенной лимфаденэктомии выигрывают в первую очередь пациенты группы высокого риска. Редакторы призвали к проведению последующего исследования, в котором сравнение было бы проведено именно в такой группе.
Еще одно ограничение текущих исследований – использование биохимического рецидива в качестве основной конечной точки, в то время как, по мнению редакторов, «первичной конечной точкой должна быть выживаемость без метастазов».
Запущенные случаи
«Для меня нет вопросов, нужна ли лимфаденэктомия в принципе, – говорит Кирилл Нюшко. – С моей точки зрения, в ряде случаев она необходима. Я регулярно сталкиваюсь с запущенными случаями РПЖ в результате неадекватно проведенных операций, когда пациент приходит к нам через три месяца после простатэктомии с очень высоким уровнем ПСА. Впоследствии мы обнаруживаем лимфоузлы, не удаленные во время операции. Поэтому я выступаю за проведение расширенной тазовой лимфаденэктомии в случае высокого риска развития рецидивов, независимо от результатов исследований».
Но при этом мы должны помнить о том, что примерно в 20 % случаев возникают ошибки на этапе дооперационного обследования, подчеркивает Кирилл Нюшко. Как тут быть? Однозначного ответа на этот вопрос нет, но обычно врачи склоняются к тому, чтобы не выполнять сразу расширенную лимфаденэктомию, если признаки прогрессирования болезни отсутствуют.
«Если мы не видим данных о поражении лимфатических узлов, то предпочитаем понаблюдать за пациентом, контролируя у него уровень ПСА и другие показатели, – говорит Кирилл Нюшко. – Если ПСА повышен через месяц после операции, мы проводим ряд необходимых тестов и в случае выявления пораженного лимфоузла возвращаемся к вопросу дополнительного лечения».
Требуются новые исследования
Таким образом, у специалистов сегодня есть четкие протоколы лечения РПЖ с применением расширенной тазовой лимфаденэктомии в случае высокого риска прогрессирования болезни. Все сходятся во мнении, что эта процедура необходима для уточнения вопроса, как далеко зашло заболевание, однако нет единодушия в том, нужна ли эта процедура вообще, повлияет ли она на исход лечения или только осложнит послеоперационную реабилитацию. Очевидно, что для ответа на этот вопрос нужны новые научные исследования.
По словам Всеволода Матвеева, сейчас той же научной группой инициировано новое исследование, в ходе которого будет проведено сравнение результатов расширенной лимфодиссекции против отсутствия таковой вообще для пациентов из разных групп риска. Таким образом будет получена объективная информация о том, как эта процедура влияет на ход безрецидивного течения болезни. Специалисты надеются, что это исследование даст более четкий и понятный ответ на вопросы, которые сегодня тревожат онкоурологов и пациентов.


- доктор медицинских наук
- профессор
- ведущий научный сотрудник НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
- член Правления Российского общества онкоурологов (РООУ)

- доктор медицинских наук
- профессор
- член-корреспондент РАН
- президент Российского общества онкоурологов

- доктор медицинских наук
- профессор
- член-корреспондент РАН
- президент Российского общества онкоурологов

- доктор медицинских наук
- профессор
- член-корреспондент РАН
- президент Российского общества онкоурологов

- доктор медицинских наук
- профессор
- ведущий научный сотрудник НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
- член Правления Российского общества онкоурологов (РООУ)

- доктор медицинских наук
- профессор
- ведущий научный сотрудник НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
- член Правления Российского общества онкоурологов (РООУ)

- доктор медицинских наук
- профессор
- ведущий научный сотрудник НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
- член Правления Российского общества онкоурологов (РООУ)

- доктор медицинских наук
- профессор
- ведущий научный сотрудник НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
- член Правления Российского общества онкоурологов (РООУ)

- доктор медицинских наук
- профессор
- член-корреспондент РАН
- президент Российского общества онкоурологов




















Интересно