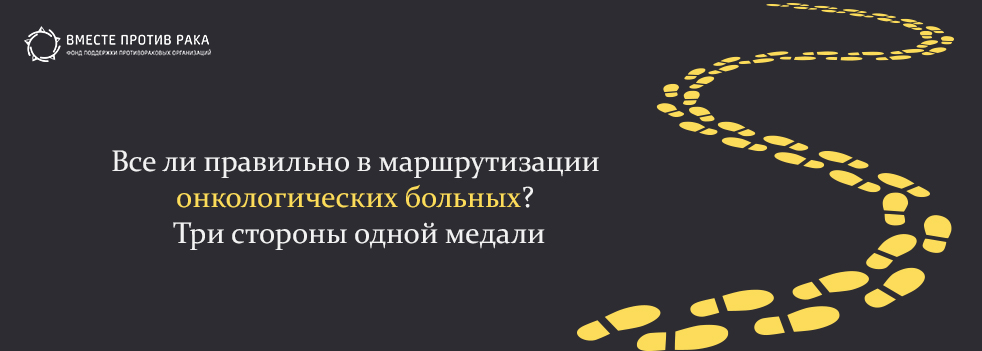
– В нашей семье, – рассказывает выпускающий редактор нашей газеты, детский невролог Ирина Владимировна Ковалева, – пятеро врачей (шестой, студент-медик, на подходе), двое из которых детские онкологи (один главврач и профессор, другой – заслуженный врач России). Но масштаб проблем с маршрутизацией пациентов в онкологии для взрослых никто из нас не представлял, пока это не коснулось близкой родственницы – маминой сестры, моей тети, 69 лет. В анамнезе у нее папиллярный рак щитовидной железы третьей стадии (радикальная операция в 1986 году), семейный анамнез отягощен по раку желудка, от которого умерли дядя и бабушка пациентки по линии отца. У тети инвалидность в связи с постоперационным гипотиреозом, для нее является принципиальным моментом возможность обследоваться и лечиться в рамках системы ОМС, а не на коммерческой основе. Ежегодно посещает районного онколога.
При очередном визите в начале августа текущего года, несмотря на отсутствие жалоб, онколог, учитывая возраст больной и язвенную болезнь желудка в анамнезе, проявил настороженность и направил пациентку на эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) и колоноскопию в одно из клинико-диагностических учреждений Департамента здравоохранения Москвы. Там обнаружили опухоль неуточненной природы в желудке (по результатам биопсии впоследствии выяснилось, что она доброкачественная) и заподозрили по внешнему виду слизистой наличие рака прямой кишки. А именно – предположительно аденокарциноидный полип в нижнеампулярном отделе прямой кишки, примерно в 4,5 см от ануса, размером 2,0 на 1,0 см и протяженностью 1,4 см, на широком основании, без признаков инвазивного роста. Взяли материал на биопсию. Через две недели пришло заключение патоморфолога с подтверждением диагноза – умеренно дифференцированная аденокарцинома прямой кишки, первая стадия.
Получив результаты колоноскопии (еще до установления гистологического диагноза), во время второго визита пациентки онколог приложил все усилия, чтобы ускорить ее обследование. В частности, побыстрее записать на компьютерную томографию органов брюшной полости и легких (КТ). Поскольку «окошка» в записи на КТ в ближайшие недели не было, врач попросила помощи у заведующей отделением, сообщив ей по телефону, что у нее на приеме больная раком прямой кишки, которая не может ждать, и ее необходимо обследовать вне очереди. Таким образом (услышав телефонный разговор) пациентка и узнала о своем диагнозе.
Благодаря активной позиции районного онколога родственница была обследована в кратчайшие сроки. Но при третьем визите процесс маршрутизации стал затягиваться. Районный онколог, которая вела пациентку, заболела. Врач на замену, не вникая в детали, отпустил пациентку по ее просьбе в заранее запланированную поездку на море на 2 недели, хотя мы всей семьей убеждали тетю, что отдых на юге нужно отменить и как можно раньше приступить к лечению. Опасались, что опухоль будет прогрессировать или, что еще хуже, начнет метастазировать. К тому же в легких пациентки обнаружились мелкие узелковые затемнения, квалифицированные выполнявшим КТ врачом как признаки фиброза, но мы с мамой, с учетом основного диагноза тети (и будучи неврологами, а не онкологами), подозревали, что это могли быть и метастазы (к счастью, это предположение не подтвердилось).
По возвращении с отдыха тетя снова попала на прием не к своему онкологу. Ей было предложено подождать результатов консилиума: решался вопрос, как ее лечить (проводить химио- или лучевую терапию либо сразу операцию) и где это делать. Консилиум то назначали, то отменяли, так в ожидании заключения врачей прошло еще две с половиной недели. В итоге в районном онкодиспансере было решено направить больную на операцию в тот же муниципальный многопрофильный лечебно-диагностический центр, где она проходила обследование. Однако к тому времени нам уже удалось по своим каналам проконсультировать нашу родственницу в специализированном федеральном научно-исследовательском учреждении 4-го уровня.
Онкологи этого учреждения попросили привезти «стекла» и блоки с результатами гистологического исследования, а также назначили дополнительное обследование, учитывая отягощенный соматический и онкологический анамнез (онкомаркеры, ангиографию брахиоцефальных артерий, холтеровский мониторинг, ультразвуковое исследование вен нижних конечностей и прочее). Однако, чтобы пройти такие обследования в рамках ОМС, забрать морфологический материал и госпитализировать больную в данный федеральный онкологический центр, нужны были направления из онкологического диспансера и/или из районной поликлиники.
И вот тут возникла проблема! Давать подобные направления в поликлинике и районном онкодиспансере категорически отказались (даже для того, чтобы забрать стекла). Сослались на приказ МЗ РФ №1363н от 23.12.2020, который якобы не позволяет направлять муниципального пациента в федеральный центр. (Замечу в скобках, что в середине 1980-х в этот же самый центр прямо с улицы, самотеком, пришла моя мама, обнаружив у себя в молочной железе объемное образование. Ее приняли безо всяких направлений, обследовали, госпитализировали и удалили опухоль, потому что 35 лет назад приказа, запрещающего пациентам обращаться в подобные центры, еще не существовало, но в то же время избыточного наплыва больных, многочасовых очередей на прием к врачу при такой свободе обращаемости в федеральный центр не наблюдалось.)
При этом, чтобы только попытаться взять направление (и узнать о том, что это, оказывается, невозможно в соответствии с данным приказом), нужно записаться к терапевту в поликлинике или к районному онкологу, а запись на ближайшие даты отсутствует – приходится ждать как минимум 2 недели. Все это затянуло процесс почти на три месяца, что в условиях неудаленной опухоли как минимум привело к сильному стрессу у пациентки и родственников, а как максимум – могло значимо ухудшить онкологический прогноз за счет ее прогрессирования (чего, к счастью, не случилось). По понятным причинам стрессом были не только отказы в направлениях, но и многочасовое ожидание в очередях в онкологическом диспансере.
В одной из таких очередей к онкологу рядом с нашей родственницей, привалившись к стене, томился крупный мужчина средних лет. Народу было много, а сидячих мест хватило далеко не всем, хотя онкологические пациенты в силу астении стоять на ногах часами, как мы знаем, вряд ли способны. Внезапно этот человек заговорил: «Что я здесь делаю? Сын и брат записались добровольцами на фронт. А меня завернула медкомиссия в военкомате. Обнаружили злокачественную опухоль и послали в онкологический диспансер по месту жительства. Записался. Пришел. Жду уже 5 часов. Лучше на войне погибнуть, чем вот так стены подпирать. Больше я сюда ни ногой!» Эта история даже в пересказе очевидца в лице тети произвела на нас сильное впечатление. Возник закономерный вопрос: если такое произошло в Москве, а что же тогда в провинции?
Но вернемся к маршрутизации родственницы. Пока длилось ожидание решения консилиума в районном онкодиспансере, мы задействовали связи еще более высокого уровня, чем это было при первой консультации в федеральном центре, в результате чего ее обследовали и прооперировали здесь по квоте безо всякого направления. Трансанальная эндоскопическая микрохирургическая резекция прямой кишки прошла успешно, биологический материал отправлен на биопсию. Диагноз при выписке: умеренно дифференцированная аденокарцинома прямой кишки, 1-я стадия. Пациентке рекомендовано обследование через 3 месяца, а также решение вопроса об удалении опухоли желудка.
И, увы, история с «волшебным звонком» не единична и уж точно не является проблемой только текущего момента. Несколько лет назад у дочери моей знакомой, 43 лет, обнаружилась крайне злокачественная и быстро прогрессировавшая опухоль молочной железы с крайне плохим прогнозом. Она увеличивалась в размерах буквально изо дня в день, поразила региональные лимфатические узлы. Точно так же, по звонку, но уже из администрации одного из первых лиц государства, пациентка в кратчайшие сроки прошла все необходимые этапы лечения и сейчас живет, работает, продолжает растить двоих детей. Но при этом другие женщины без подобных связей ждали очереди на прием к врачу, «окошка» в записи на обследование, решения консилиума, места на госпитализацию и в итоге теряли драгоценное время. Возьмусь предположить, что и дорогостоящих современных химиотерапевтических или иммуноонкологических препаратов хватило не на всех, хотя московские больные как 3 года назад, так и сейчас обеспечены ими намного лучше, чем пациенты в регионах.
Итак, тете повезло – она смогла получить лечение в той клинике, в которой хотела и которой доверяли ее родственники, а ожидание в течение нескольких месяцев не привело к прогрессированию болезни. Но если отстраниться от конкретной истории, в которой все закончилось хорошо, то я вижу тут огромную несправедливость. Чиновниками от медицины принят очень жесткий закон о маршрутизации, который «пригвоздил» пациентов к своим онкологическим поликлиникам и стационарам по месту жительства, но избранные больные при поддержке в медицинской среде, как у нас, или «сверху», что наверняка происходит гораздо чаще, могут обойти любые правила и получить максимально быстрое и качественное лечение (или лечение «по желанию»).
Чиновники опасаются, что тысячи больных из регионов хлынут в федеральные онкологические центры и заблокируют их работу. Но мне кажется, что такого не было до принятия закона, не случилось бы и после. Не у каждого онкологического пациента есть желание, силы и возможность совершить такую поездку, к тому же многим больным достаточно того объема обследования и лечения, который проводится на местах. В то же время у пациента с жизнеугрожающим диагнозом должно быть право выбора, где и у кого лечиться, ведь второго шанса пойти по этой дороге у него не будет.
– Николай Викторович, с учетом описанной выше ситуации хотелось бы поговорить о проблемах маршрутизации онкологических больных, трактовке приказа МЗ РФ №1363н от 23.12.2020 и нормативах оказания онкологической помощи.
– Прежде чем комментировать данную ситуацию, я бы разбил ее на составляющие. Первое: пациент вне зависимости от рекомендаций районного онкологического диспансера пожелал узнать «второе мнение» в одном из НМИЦ. Давайте начнем с известного многим онкологическим пациентам из провинции и воспринимаемого ими весьма критично приказа Минздрава РФ №1363н. Он регламентирует порядок направления пациентов в федеральные онкоцентры за счет средств ОМС. Представьте, что каждый пациент захочет обследоваться и лечиться в НМИЦ и выдача направлений не будет никак регламентирована. Как будут тогда работать региональные диспансеры и НМИЦ? Подавляющему большинству онкобольных диагностика и лечение в федеральных центрах не нужны, потому что им вполне могут помочь и силами региональных онкологических служб. С уверенностью могу говорить о северо-западе России, нашей Ярославской области и соседних Вологодской, Костромской, Ивановской. Убежден: здесь могут оказать качественную помощь. Неправда, что современное оборудование для диагностики и лечения, а также опытные, знающие онкологи есть только в столице, а в регионах все очень плохо.
Приведу несколько примеров относительно нашей ярославской ОКОБ – головного регионального учреждения третьего уровня по оказанию онкологической помощи. Мы выполняем все виды диагностики опухолей, есть только два исключения: у нас нет лабораторий для радионуклидной и молекулярно-генетической диагностики. Но такие анализы выполняем с помощью федеральных онкоцентров. Если отправляем туда материал, скажем, для молекулярно-генетического анализа, результаты приходят примерно через 3 недели. Хотелось бы быстрее, так как, например, больному с опухолью легкого, которому необходимо такое обследование, вынуждены начинать химиотерапию, а затем по результатам молекулярно-генетического анализа переводим его на таргетную терапию (при ее наличии).
Если говорить о комплексном лечении онкологических пациентов в нашей области, то, когда специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России как курирующей организации бывают у нас, они достаточно высоко оценивают качество нашей работы. С 2019 года в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в ОКОБ переоснастили весь парк оборудования для лучевой терапии, отказавшись от устаревших кобальтовых аппаратов. Сейчас у нас только самые современные линейные ускорители и диагностическое оборудование.

– Значит, приказ МЗ РФ №1363н не становится для онкобольных преградой к лучшему лечению?
– Вот именно. Я считаю, что это правильный нормативный акт, адекватный той ситуации с оказанием медпомощи онкологическим больным, которая сегодня имеет место в России. Благодаря ему федеральные центры могут лечить за счет средств ОМС именно тех больных из регионов, которые нуждаются в этом. С другой стороны, приказ выступает в роли спасительной «дамбы», которая защищает федеральные ЛПУ от потока пациентов, которых вполне могут лечить и в регионах. Обрушься этот поток на федеральные центры, он парализовал бы их работу и лишил бы возможности лечиться тех, кому действительно нужна самая сложная помощь. Я и мои коллеги по ОКОБ направляем наших пациентов в федеральные центры (решение здесь всегда принимает консилиум) в соответствии с пунктом 7 этого приказа, который описывает показания для направления больного в онкологические ЛПУ 4-го уровня. Считаю, что решение о направлении пациента в федеральные центры за счет средств ОМС должно приниматься врачами, а не быть основано на желании пациентов и их родственников.
– А правильно ли отказали родственнице нашего коллеги в выдаче «стекол»?
– Это вторая часть ситуации из данного примера. ЛПУ не имеет права отказать пациенту в выдаче гистологических препаратов. По письменному заявлению больного он должен их получить, так как по закону это его собственность. Напротив, медицинские документы – собственность лечебного учреждения. Но пациент имеет право попросить сделать копии этих документов или выписки, и ему не должны в этом отказывать.

– Женщине не удавалось получить направление не только на лечение, но и на консультацию в федеральный центр. Возникли трудности даже с получением второго мнения.
– Я бы не стал придавать большого значения наличию второго, третьего и дальнейших мнений. Большее значение имеет то, где пациент будет проходить лечение. По законодательству всю ответственность за терапию пациента несет лечащий врач. Консультант эту ответственность никак не разделяет. Поэтому лечащий врач может принимать мнение консультанта, а может игнорировать, независимо от званий и регалий последнего. Есть клинические рекомендации, в соответствии с которыми решается подавляющее большинство клинических случаев в региональных онкологических учреждениях.
– А что скажете о пациенте, у которого при медосмотре в военкомате заподозрили злокачественную опухоль и который ждал 5 часов в очереди в онкологическом диспансере?
– Это третья часть данной ситуации. Пациент, впервые сталкиваясь с онкологическим диагнозом, испытывает определенный уровень тревоги, который не позволяет адекватно оценить все аспекты. Пять часов ожидания приема – это, с одной стороны, много, а с другой, онкологический диспансер – учреждение, где оказывается плановая помощь и приемы специалистов расписаны. Пациенту, как я понимаю, никто не отказал в приеме в тот же день?! (Нет, пациент пришел на прием по записи, а не в тот же день из военкомата, как и все другие больные, ожидавшие своей очереди по записи примерно такое же время. – Прим. ред.) Сравнивать «5 часов ожидания приема» и несколько месяцев дальнейшего комплексного лечения с возможностью полного выздоровления или значительного продления жизни я бы не стал.
– Регламентирован ли нашим медицинским законодательством максимальный срок от постановки диагноза ЗНО до начала лечения?
– Да, этот момент регламентирован приказом Минздрава РФ от 19.02.2021 №116н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях», который согласуется в этом с программой государственных гарантий. Согласно этому документу, оказание такой помощи должно начинаться в первые 7 дней с момента верификации диагноза. Учитывая сегодняшнее состояние онкологической службы, соблюдение этого срока для всех пациентов в настоящее время невозможно, а в некоторых ситуациях просто не нужно. По-моему, это чрезмерное регулирование работы врача. Оно лишает онколога права дифференцированно подходить к своему пациенту. Например, больной с базальноклеточным раком кожи может безопасно подождать начала лечения хоть 3 месяца, и это никак не отразится на исходе терапии. Напротив, пациент с четвертой стадией колоректального рака, который находится на грани курабельности, должен начать лечиться не то что в ближайшую неделю, а прямо сегодня. Приказ 116н уравнивает этих больных, что, по-моему, совершенно неправильно.
Есть и такая бессмысленная норма в регламенте ОМС, которая бьет больно, но на этот раз не по врачу, а по пациенту. Например, ему необходимы две консультации: у онкогинеколога или маммолога, а также химиотерапевта, – и такая ситуация случается часто. Но, согласно правилам ОМС, онкодиспансеру нельзя оплатить из средств этого фонда сразу две такие консультации в один и тот же день. Можно только одну. Мы вынуждены экономить получаемое финансирование, и для такого человека разбиваем визиты к докторам на два разных дня или, принимая пациента из дальнего региона в один день, терпим убытки. Для москвича это было бы неприятно, но все же посильно. Есть метро, есть такси, если пациент ослаблен. Но представьте, что речь идет о жителе городка Пошехонье, самого северного райцентра нашей области. А оттуда до Ярославля добираться целый день! Думаю, комментарии излишни…
– В чем еще проигрывают в качестве получаемой медицинской помощи региональные онкобольные по сравнению с теми же москвичами?
– Сегодня в нашей стране есть катастрофическое несоответствие правильных с точки зрения медицинского наполнения клинических рекомендаций и финансовых возможностей системы здравоохранения. Чтобы лечить больного в соответствии с клиническими рекомендациями, Ярославской области как региону с высокой онкологической заболеваемостью нужно примерно в 4 раза больше средств, чем у нас есть сейчас. Заложниками этого несоответствия являются и врачи, и пациенты.
С одной стороны, мы обязаны лечить наших больных как можно лучше. С другой, при превышении согласованных объемов или стоимости оказанной помощи страховая медицинская организация нам не возместит ни копейки из таких сверхлимитных объемов. Как я однажды уже рассказывал в интервью вашей газете, по моим подсчетам, для лечения согласно клиническим рекомендациям только пациенток с метастатическим HER2+ раком молочной железы в нашей области необходима половина финансового плана дневного стационара учреждения. В результате нам приходится буквально «размазывать» тонким слоем по всем случаям лечения онкологических больных те крайне недостаточные возможности, что мы имеем.
Льготное лекарственное обеспечение онкологических пациентов лишь частично спасает это бедственное положение и зависит от региона. Насколько мне известно, в Москве оно значительно лучше, чем в остальных регионах. Приходится констатировать, что онкологические больные в Ярославской области недостаточно обеспечены современными таргетными и иммуноонкологическими препаратами. Тут же можно заметить, что федеральные центры с большой неохотой берут пациентов из регионов для проведения дорогостоящей лекарственной терапии. Чаще мы получаем только рекомендации о необходимости такой терапии тому или иному больному, которые не можем выполнить по экономическим причинам.
– О каких еще проблемах организации онкологической помощи вы бы упомянули?
– Я бы отметил проблемы раннего выявления опухолей в первичном звене. Онкологические диспансеры получают пациентов из первичного звена, где имеется кадровый дефицит онкологов, врачей общей практики и специалистов, а также дефицит диагностического оборудования. От этого страдает качество работы с пациентами, у которых есть подозрение на онкологическое заболевание, и находящимися на диспансерном учете. Программа переоснащения первичного звена и организация центров амбулаторной онкологической помощи, на мой взгляд, пока никаких результатов не дают.


- главный внештатный специалист онколог Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области
- кандидат медицинских наук




















Это правда врач? Скорее чиновник от медицины. Всё хорошо прекрасная маркиза. Больных в федеральные центры не пускаем, так как они уведут за собой деньги ОМС. Но и сами не лечим, так как у нас денег нет. Замечательная логика чиновника! Федеральные центры не будут брать только в случае отказа оплаты их услуг. из ОМС. Клинические рекомендации плохие, потому что слишком хорошие. Пять часов ожидания в тесном переполненном помещении – ерунда вопрос, потерпят (вас много, а я одна). Беспокоюсь за ментальное здоровье, нельзя же жить в таком когнитивном диссонансе.
С каких это пор препараты лаборатории стали собственностью пациента? Согласно какому закону?