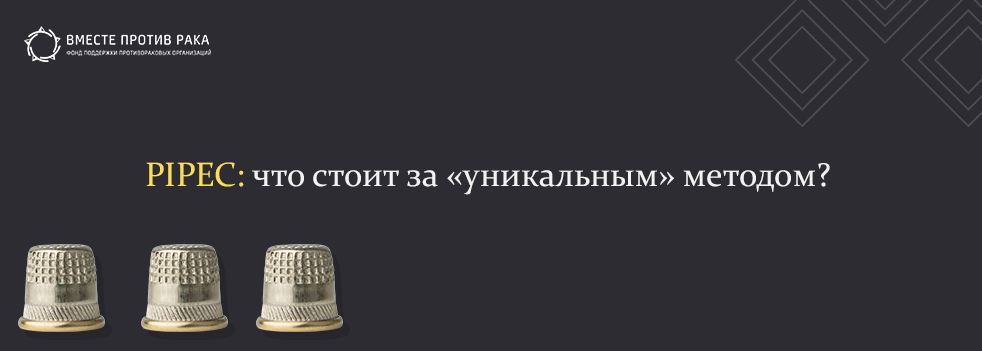
Под давлением
В России PIPAC «продают» под видом спасительной передовой методики, доступной избранным пациентам в избранных онкологических учреждениях. В июле 2021 года руководитель НМИЦ радиологии и главный внештатный онколог Минздрава академик Андрей Каприн прочел журналистам целую лекцию о чудо-возможностях PIPAC, способного предотвратить стадию паллиатива: «PIPAC-терапия совершенно точно будет революционной в стране, – объявил он. – Потому что этим больным никак нельзя помочь, они были бы отправлены на паллиативную помощь, а мы их берем на PIPAC. Если вдруг мы этот метод не пустим, а он окажется действенным, вот тогда мы пожалеем об этом». (Видеозапись встречи опубликована порталом «Научная Россия».)
Технологию изобрели в Германии, впервые применили в 2011 году. С тех пор несколько клиник в разных странах экспериментируют с PIPAC, но убедительных доказательств его эффективности до сих пор нет. У врачей имеются только данные ретроспективных исследований, каждое из которых обычно содержит небольшое число пациентов с разными критериями включения, разными схемами применения. В них анализируются такие показатели, как объективная частота ответа, частота патоморфологического регресса и выживаемость без прогрессирования. Но пока что нет качественных исследований, позволяющих провести хоть какой-то метаанализ, т. е. получить достаточно надежные доказательства эффективности PIPAC по сравнению со стандартной терапией, т. е. по сравнению с проведением только системного лечения.
«Во-первых, этот метод, хотя авторы считают его оригинальным и резко отличающимся, очень близок к методу HIPEC. При этом неэффективность HIPEC уже доказана, а эффективность PIPAC под большим вопросом, – объясняет к.м.н. Наталия Бесова, ведущий научный сотрудник химиотерапевтического отделения №2 НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. – PIPAC не используют отдельно от системной химиотерапии, а она и сама по себе достаточно эффективна – при использовании цитостатиков последнего поколения она дает хорошие результаты при диссеминации по брюшине опухолевого процесса вплоть до полной резорбции асцита. Конечно, при выраженном асците, требующем эвакуации, ее успехи скромнее. Но и успехи PIPAC тоже гораздо скромнее именно при напряженных асцитах у пациентов, которые уже прошли химиотерапию. То есть в ситуации резистентности к химиопрепаратам не работают и системная химиотерапия, и PIPAC. А там, где PIPAC работает достаточно успешно, он не применяется в отрыве от химиотерапии, которая и без него дает хороший эффект».
Систематические обзоры (1, 2, 3) позволяют сделать вывод о том, что PIPAC относительно безопасен и неплохо переносится больными. В июне 2022 года в Journal of Clinical Oncology вышел новый обзор о методах лечения перитонеальных метастазов. Но и здесь PIPAC рассматривается только как 2-я или 3-я линия паллиативного лечения.
Первое рандомизированное исследование III фазы по оценке онкологических преимуществ PIPAC находится на стадии отбора участников и будет завершено только в 2028 году.
На конгрессе ASCO в июне 2022 года были доложены результаты сравнения методики PIPAC и стандартной химиотерапии, на этот раз при лечении платино-резистентного рака яичников. Исследование страдает изъянами других работ по PIPAC. В качестве первичной конечной точки устанавливаются не классические показатели, такие как беспрогрессивная и общая выживаемость, а частота ответа на лечение, что само по себе недостаточно для полноценной регистрации метода или препарата. Хоть эта работа и значимее прошлых, она все же скорее поисковая, так и не давшая ответ на вопрос, какое место этот метод должен занимать при раке яичников, стоит ли добавлять PIPAC к нынешнему стандарту лечения, т. е. к химиотерапии.
«Эту методику предполагалось использовать у паллиативных пациентов с кацероматозом брюшины и выраженным асцитом в целях попытки улучшения качества жизни. Смысл – в уменьшении количества дренирующих процедур при накоплении жидкости в брюшной полости. Однако никакого отношения к увеличению продолжительности жизни пациентов метод не имеет», – считает экс-директор по развитию и руководитель отдела по разработке клинреков Ассоциации онкологов России, президент фонда «Вместе против рака» к.м.н. Баходур Камолов.
Из-за недостатка достоверных доказательств клинической эффективности авторитетные профсообщества Европы и США не вносят PIPAC в свои рекомендации и протоколы лечения. NCCN и ESMO рекомендуют при метастазах по брюшине только системную терапию.
Разбудили Герцена
Может быть, НМИЦ радиологии, открыто занимающийся популяризацией метода, располагает иными данными? В 2022 году коллектив авторов из НМИЦ, в том числе Андрей Каприн, опубликовали в журнале «Онкология» статью об опыте института. Из материала можно узнать, что с 2014 по декабрь 2021 года МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» провел 552 процедуры PIPAC 226 больным раком желудка с канцероматозом брюшины. Все пациенты получали стандартную химиотерапию в сочетании с PIPAC. Главный вывод: данная комбинация повышает медиану общей выживаемости больных, однако результаты сопоставлены с «группой исторического контроля» вместо полноценной группы сравнения. В завершение авторы признают, что «для окончательного суждения об эффективности предложенного метода необходимо проведение рандомизированных исследований».
«В результате применения любого метода пациенты должны жить или дольше, или лучше, – объясняет заведующий хирургическим отделением абдоминальной онкологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова д.м.н. Алексей Карачун. – И это в любом случае доказывается в рамках рандомизированных исследований, в которых есть группа PIPAC и группа без PIPAC. Очевидно же, если у нас монорукавное исследование, т. е. если пациент кроме PIPAC получил системную химиотерапию или еще что-то, то невозможно понять – отчего конкретно ему стало лучше. Если нет контрольной группы, то, к сожалению, мы можем только спекулировать и предполагать. PIPAC известен уже достаточный срок для того, чтобы испытать этот метод в рамках стандартных подходов к валидации. Ведь применяется он в одной из ведущих клиник страны и при желании она могла бы аккумулировать достаточное количество пациентов для адекватного проведения исследования. Но такового нет – и нет смысла рассуждать, увеличилась бы продолжительность жизни или ее качество».
В клинике, о которой идет речь, считают, что дело сделано, все что надо – доказано и пора пожинать лавры. «Проведенная за истекшие 6 лет масштабная научно-практическая работа позволила институту занять лидирующие позиции в этой области, – заявляет Национальный центр по лечению больных с канцероматозом – подразделение МНИОИ им. П.А. Герцена, – и первым в мире доказать целесообразность применения аэрозольной химиотерапии в качестве одного из основных методов лечения у пациентов, страдающих перитонеальным канцероматозом».
Но другие российские исследователи PIPAC гораздо аккуратнее коллег из НМИЦ радиологии в оценках возможностей метода и подчеркивают не лечебную, а паллиативную его направленность. «Мы используем этот метод только в рамках клинического исследования GASPACCO, – рассказывает д.м.н. Александр Захаренко, заведующий кафедрой онкологии и факультетской хирургии НИИ хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. – В рамках этого исследования мы допускаем эффективность метода. Я сам видел эффекты такого паллиативного лечения. Однако наше исследование еще не завершено. Пока для категоричных утверждений недостаточно доказательной базы, правильнее было бы опираться на метаанализ или систематический обзор».
Немного о законности
По закону любая новая методика должна проходить клиническую апробацию, она не может начать применяться просто так и потому, что кому-то она очень нравится. В открытых источниках нам удалось найти только заявление о рассмотрении протокола клинической апробации методики внутрибрюшинной аэрозольной химиотерапии под давлением от 29 февраля 2016 года и сам протокол. Заявитель – МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. Согласно документу клиническая апробация была запланирована на 2016 и 2017 годы, для участия в ней требовалось 10 пациентов. Однако отчет об исполнении протокола или решение Экспертного совета Минздрава о наличии/отсутствии клинико-экономической эффективности прошедшего клиническую апробацию метода в общем доступе не опубликованы. Фонд «Вместе против рака» направил запрос в НМИЦ радиологии с просьбой ознакомить издание с итоговыми материалами клинической апробации метода PIPAC. Ответ центра не внес ясности: запрашиваемая информация у НМИЦ отсутствует, т. е. на данный момент вообще нет уверенности в том, что апробация в принципе проводилась.
Более того, как указывается в статье, в МНИОИ им. П.А. Герцена метод PIPAC применяется не в рамках клинической апробации, а в рамках клинических исследований II фазы. Причем применяется таким образом уже с 2014 года, т. е. еще за 2 года до принятия протокола клинапробации.
Жонглирование терминами, возможно, и годится для создания должного впечатления, однако неубедительно в плоскости закона. Пока что не предоставлено правового основания для применения методики даже в качестве экспериментальной, не говоря уже об основаниях для применения методики в рутинной практике.
Несмотря на это, весной 2021 года возглавляемая главным внештатным онкологом Минздрава Андреем Каприным Ассоциация онкологов России попыталась включить метод PIPAC в российские клинические рекомендации «Рак желудка» 2020 года. В текущей редакции раздела 3.4.3, где речь идет об особых клинических ситуациях, отмечается, что методики HIPEC и PIPAC вне рамок клинических исследований не рекомендуются. Уровень убедительности данных рекомендаций (УУД) – C, уровень достоверности доказательств – 5.
Но ради добавления одного абзаца о PIPAC был затеян пересмотр актуального документа. Но, казалось бы, маленькая задача обернулась большим скандалом, эпицентр которого пришелся на заседание Научно-практического совета Минздрава России в июле 2021 года, где против «улучшения» клинических рекомендаций резко выступил другой главный внештатный онколог Минздрава академик Иван Стилиди. Напомним, что незадолго до этого модератор рабочей группы и автор клинрека Наталья Бесова отказалась вносить PIPAC в клинические рекомендации, за что поплатилась своими полномочиями – ее сменили путем проведения необоснованного голосования. Ее место занял заведующий торакоабдоминальным хирургическим отделением МНИОИ им. П.А. Герцена к.м.н. Владимир Хомяков. Именно в этом отделении МНИОИ им. П.А. Герцена создан возглавляемый тем же Владимиром Хомяковым Национальный центр по лечению больных канцероматозом – штаб-квартира «российского PIPAC».
Вмешательство академика Ивана Стилиди притормозило искусные маневры по включению PIPAC в клинреки. Но в клинической практике метод продолжают не только активно продвигать, но и применять, причем даже за счет бюджетных средств.
Все свои
Гендиректор НМИЦ радиологии не скрывает причин своей привязанности к PIPEC. «Было дорого за счет форсунок, которые под высоким давлением распыляют препарат по брюшной полости, – рассказывал журналистам Андрей Каприн. – Форсунки были немецкие и очень дорогие, а сейчас сделали наши форсунки, которые выпускаются в Твери. Почему я их так рекламирую? Дело в том, что на коробочке написано: ООО такое-то и НМИЦ имени Герцена. Это будет увековечено на долгие, долгие годы».
ООО не просто «такое-то», а, можно сказать, родное для МНИОИ им. П.А. Герцена – «Отдел инноваций». Руководит им с момента основания Андрей Иванов. Вместе с группой коллег он является обладателем авторских прав на изобретение «Устройства для доставки растворов в виде аэрозоля в анатомические полости» – той самой тверской форсунки. Еще в 2020 году в МНИОИ им. П.А. Герцена работал хирург-онколог Андрей Иванов. В сети «Интернет» есть благодарственные отзывы пациентов, которым он выполнил операции. В ЕГРЮЛ указан номер телефона (мобильный) ООО «Отдел инноваций» – тот же самый, что и на сайте НМИЦ радиологии, по которому можно было записаться на курс обучения методу PIPAC. Клинические испытания медицинского изделия проводились все в том же НМИЦ радиологии.
Кстати, насчет обучения. В 2020 году НМИЦ радиологии активно занимался просвещением медиков на предмет применения PIPAC при участии факультета повышения квалификации медицинских работников Медицинского института РУДН. Сертифицированный курс «Карциноматоз брюшины. Диагностика, современные подходы к лечению, прогноз» преподается в РУДН (36 часов, 15 тыс. руб.), но в его описании ничего не сказано о PIPAC. В Национальном центре по лечению больных канцероматозом (читай – МНИОИ им. П.А. Герцена) под таким же названием продавали двухдневные занятия под руководством Владимира Хомякова.
Дружбу между НМИЦ и РУДН скрепляет Андрей Костин: в клинике он заместитель гендиректора, в университете – проректор по научной работе. Также г-н Костин является главным внештатным специалистом-онкологом Минздрава Московской области – региона, включившего PIPAC при перитонеальном канцероматозе при раке яичников в региональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями на период 2019–2024 годов, несмотря на то что методика аэрозольной химиотерапии не входит в профильные клинические рекомендации и соответствующий стандарт медицинской помощи.
По невероятному стечению обстоятельств в 2020 году совладелицей ООО «Отдел инноваций», а фактически компании одной форсунки стала некая г-жа Костина. Других «инноваций» за компанией не замечено.
Всего на сегодняшний день бюджетных заказчиков PIPAC-форсунок одиннадцать. Что между ними общего? Часть из них напрямую подчиняются Андрею Каприну: НМИЦ радиологии, МНИОИ им. П.А. Герцена, МРНЦ им. А.Ф. Цыба. Часть, очевидно, попала под влияние главных внештатных специалистов-онкологов (федерального и подмосковного) – руководителей все того же НМИЦ: диспансер из Татарстана, Саратовский, Московский областные диспансеры. Напомним, что Приволжский и Центральный округа находятся в сфере ответственности Андрея Каприна как главного онколога Минздрава.
На этом покорение страны не заканчивается. Нижегородская область, находящаяся также под курацией Андрея Каприна, недавно включила в план мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области» такой пункт, как «внедрение методики PIPAC для лечения пациентов с запущенными формами рака желудочно-кишечного тракта». Теперь лечение пациентов методикой PIPAC будет осуществляться и на базе Нижегородского областного онкодиспансера. На 2023 год запланировано 15, на 2024 год – 20 процедур.
За чей счет банкет?
Авторы статьи в International Journal of Surgery (ноябрь, 2020), проанализировав доступные им публикации о методе PIPAC, сформулировали вывод о причинах, которые тормозят продвижение метода на рынке медицинских услуг. Есть причина медицинская: «нежелание руководства больниц разрешить эту новую процедуру с аэрозольным распылением токсичных препаратов и аккредитовать новую технологию без научных доказательств ее долгосрочной безопасности и эффективности». Есть и экономическая, «связанная со стоимостью аппарата и ее возмещением национальной системой здравоохранения».
Похоже, для российских клиник это не проблема. Покупки оплачиваются в том числе из средств ОМС. Как онкоклиники умудряются получать деньги на метод, который отсутствует в клинических рекомендациях, стандартах медпомощи, номенклатуре медуслуг и не включен в федеральную программу госгарантий?
Бухгалтерам в белых халатах приходится проявлять чудеса изобретательности. Ряд клиник маскируют PIPAC под диагностическую процедуру, коей этот метод очевидно не является. Например, в ответ на запрос фонда «Вместе против рака» ТФОМС Саратовской области сообщил, что процедура оплачивалась по коду номенклатурной услуги «Лапароскопия диагностическая», тариф по которой составляет около 30 тыс. руб.
Московский областной онкодиспансер, как следует из тендерной документации, приобретал изделия за деньги ТФОМС и областного бюджета, но средствами ОМС сама медицинская манипуляция не оплачивалась.
ТФОМС Татарстана ответил, что за PIPAC платил региональный бюджет – в среднем 200 тыс. за процедуру. Причем оплата осуществлялась за счет средств, предусмотренных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), не включенной в базовую программу ОМС. Только вот в перечне ВМП-2 такая услуга, как «внутрибрюшинная аэрозольная химиотерапия под давлением», отсутствует.
Ответы ТФОМС показывают, насколько по-разному оплачивается одна и та же медицинская услуга клиникам в разных регионах. В Саратовской области – явно дефицитно, так как, как мы узнали из ответа Саратовского онкодиспансера, себестоимость манипуляции составляет около 95 тыс. руб. В Татарстане, наоборот, проводить PIPAC выгодно. Возможно, это объясняет сравнительно низкий объем закупок форсунок в Саратове: всего 8 медизделий против 91 в Татарстане.
Попытка застолбить за методикой теплое местечко была предпринята весной этого года – в проект приказа Минздрава России об утверждении новой Номенклатуры медицинских услуг предложено включить PIPAC под кодом 06.KMA.02.002.002. В списке он размещен следом за новым кодом HIPEC. Приказ пока что не утвержден, но в любом случае для законного использования технология PIPAC должна войти в профессиональные нормы – клинические рекомендации и стандарты медпомощи.
«Если больницу поймают, то фонд ОМС может ее оштрафовать и отказаться оплачивать медицинскую услугу, не регламентированную клиническими рекомендациями и стандартами медицинской помощи. Кроме того, препараты используются офф-лейбл, что в отношении несовершеннолетних вообще вне рамок закона, – поясняет вице-президент фонда «Вместе против рака», адвокат к.ю.н. Полина Габай. – Проблема может оказаться и серьезнее: нецелевое использование бюджетных средств со всеми вытекающими отсюда последствиями вплоть до вменения мошенничества (ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (УК РФ)) или превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Бюджету нанесен существенный ущерб, если оперировать понятиями Уголовного кодекса Российской Федерации, то в особо крупном размере, точнее, даже в размере, многократно превышающем особо крупный. Врачи, непосредственно выполняющие PIPAC, могут быть привлечены к уголовной ответственности даже при отсутствии негативных последствий для здоровья пациента, потому что метод PIPAC находится вне рамок правового поля, а следовательно, не отвечает требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)».
По всей видимости, покровители экспериментального метода считают себя защищенными от вышеописанных угроз. Действительно, чего бояться монополистам – PIPAC в России комплексно обслуживают одни и те же люди: клиники, пациенты, изделия, публикации, исследования, поправки в правовые нормы – все в одних руках. Ситуация вокруг PIPAC может создать крайне нежелательный прецедент, который превратит в привычное дело применение процедур с недоказанной эффективностью и оплату их из средств ОМС. Благо методов в медицинском мире придумано немало и для каждого можно изобрести и пустить в продажу свою «форсунку».
«В бизнесе нет ничего предосудительного. Однако всему свое место: паллиативные технологии не должны подменять специализированную онкопомощь, экспериментальные технологии – рутинную клиническую практику, а методики, не входящие в клинические рекомендации, не могут финансироваться за счет программы госгарантий. Это тем более важно в условиях дефицита бюджетных средств, когда ряд пациентов лишен возможности получить лечение по ОМС. Кроме того, имеется большой пласт нерешенных проблем: убыточность тарифов, кадровый дефицит, низкая эффективность дженериков, отсутствие полноценного доступа к сопроводительной терапии и молекулярно-генетическим исследованиям. Именно это должно быть предметом работы организаторов национальной онкологической службы. Если методика стремится в программу госгарантий, то ей надо пройти все этапы – от полноценных научных испытаний до нормативного регулирования и экономического обоснования. Кроме того, текущая ситуация создает риски для врачей и клиник, использующих PIPAC, особенно сейчас, когда у Следственного комитета фактически карт-бланш на уголовное преследование наших коллег», – подводит итоги президент фонда «Вместе против рака» Баходур Камолов.

PIPAC – это метод лечения метастазов по брюшине путем распыления химиопрепаратов через прокол в брюшной стенке под давлением, дословно с английского pressurised intraperitoneal aerosol chemotherapy. Метод используется при опухолях желудка, яичника, толстой и прямой кишки, но есть данные и об использовании при гепатобилиарных опухолях. Иногда метод именуют PIPEC, созвучно противопоставляя HIPEC – внутрибрюшной гипертермической химиотерапии.
PIPAC упоминается в клинических рекомендациях ESMO по лечению рака желудка, но только как метод с потенциальной эффективностью: с оговоркой о том, что данные проспективных сравнительных исследований еще не получены.
Метод HIPEC внесен в Номенклатуру медицинских услуг под кодом A16.30.053 (приказ Минздрава России от 13.10.2017 №804н), а также в перечень видов высокотехнологичной медпомощи, финансируемых за счет ОМС (например, циторедуктивные операции с внутрибрюшной гипертермической химиотерапией).
Авторы отмечают, что некоторые академические и крупные специализированные центры в Сингапуре, Японии, Южной Корее, Китае, Франции и США используют более агрессивные экспериментальные подходы, не рекомендованные ни NCCN, ни ESMO, в том числе практикуют PIPAC.
И без того скромное запланированное количество участников в 100 пациентов уменьшилось: авторы смогли рандомизировать только по 40 человек в каждую группу. В исследовании участвовали больные, у которых были выявлены только перитонеальные метастазы, пациенты даже с поражением лимфатических узлов не допускались.
Ст. 36.1 «Особенности медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации» введена Федеральным законом от 08.03.2015 №55-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” по вопросам организации медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации»:
«1. Клиническая апробация представляет собой практическое применение разработанных и ранее не применявшихся методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи для подтверждения доказательств их эффективности».
Положение об организации клинической апробации (приказ Минздрава России от 02.02.2022 №46н) не обязывает публиковать указанные документы в сети «Интернет».
УУД «С»: Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все исследования имеют низкое методологическое качество, и их выводы по интересующим исходам не являются согласованными).
УДД «5»: Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические исследования) или мнение экспертов.
(Приложение №2 к Требованиям к структуре клинических рекомендаций, составу и научной обоснованности включаемой в клинические рекомендации информации, утвержденным приказом Минздрава России от 28.02.2019 №103н).
Раздел 3.3.5 проекта обновленных клинических рекомендаций «Рак желудка» «Внутрибрюшная химиотерапия с изолированным перитонеальным канцероматозом».
Согласно инструкции к форсунке, размещенной на сайте Росздравнадзора, маркировка на первичной индивидуальной упаковке, на вторичной индивидуальной упаковке и на групповой упаковке содержит в том числе следующие сведения:
- надпись «Разработано при содействии МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ “НМИЦ радиологии” Минздрава России»;
- эмблемы МНИОИ им. П.А. Герцена и ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

- академик РАН
- доктор медицинских наук
- профессор
- академик РАО
- заслуженный врач Российской Федерации
- директор МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
- главный внештатный онколог Минздрава России
- президент Ассоциации онкологов России

- кандидат медицинских наук
- исполнительный директор Российского общества онкоурологов
- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета по охране здоровья Госдумы РФ

- академик РАН
- доктор медицинских наук
- профессор
- академик РАО
- заслуженный врач Российской Федерации
- директор МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
- главный внештатный онколог Минздрава России
- президент Ассоциации онкологов России

- руководитель отдела онкохирургии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России
- доктор медицинских наук
- доцент

- академик РАН
- доктор медицинских наук
- профессор
- академик РАО
- заслуженный врач Российской Федерации
- директор МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
- главный внештатный онколог Минздрава России
- президент Ассоциации онкологов России

- академик РАН
- доктор медицинских наук
- профессор
- главный внештатный онколог Минздрава России

- академик РАН
- доктор медицинских наук
- профессор
- главный внештатный онколог Минздрава России

- академик РАН
- доктор медицинских наук
- профессор
- академик РАО
- заслуженный врач Российской Федерации
- директор МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
- главный внештатный онколог Минздрава России
- президент Ассоциации онкологов России

- проректор по научной работе РУДН
- заведующий кафедрой урологии с курсами онкологии, радиологии и андрологии факультета непрерывного медицинского образования медицинского института РУДН
- член-корреспондент РАН
- доктор медицинских наук
- профессор

- проректор по научной работе РУДН
- заведующий кафедрой урологии с курсами онкологии, радиологии и андрологии факультета непрерывного медицинского образования медицинского института РУДН
- член-корреспондент РАН
- доктор медицинских наук
- профессор

- академик РАН
- доктор медицинских наук
- профессор
- академик РАО
- заслуженный врач Российской Федерации
- директор МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
- главный внештатный онколог Минздрава России
- президент Ассоциации онкологов России

- академик РАН
- доктор медицинских наук
- профессор
- академик РАО
- заслуженный врач Российской Федерации
- директор МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
- главный внештатный онколог Минздрава России
- президент Ассоциации онкологов России

- академик РАН
- доктор медицинских наук
- профессор
- академик РАО
- заслуженный врач Российской Федерации
- директор МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
- главный внештатный онколог Минздрава России
- президент Ассоциации онкологов России

- кандидат юридических наук
- учредитель юридической фирмы «Факультет медицинского права»
- доцент кафедры инновационного медицинского менеджмента и общественного здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России
- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета Госдумы РФ по охране здоровья

- кандидат медицинских наук
- исполнительный директор Российского общества онкоурологов
- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета по охране здоровья Госдумы РФ
























Спасибо за глубокое и всестороннее освещение вопроса. БЕДА заключается в том, что из федерального бюджета и ФОМС финансируются ТОЛЬКО виды лечения, включенные в соответствующие госзадания, приказы и перечни. Никакие другие новаторские методы не имеют никаких реальных источников финансирования кроме правительственных научных грантов, которые еще нужно суметь получить по конкурсу (читай – по протекции). Как раз препятствием на этом пути могут быть главные внештатные специалисты МЗ РФ и возглавляемые ими федеральные центры.
PIPAC, что в переводе на русский означает пипец больному, виват предприимчивым новаторам.