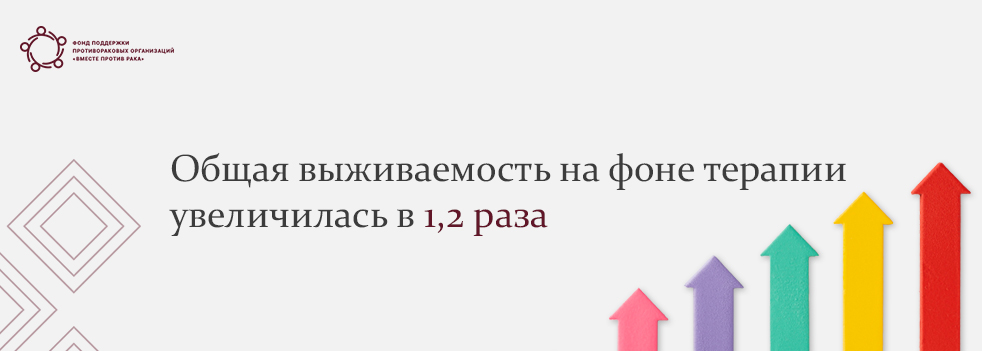
Авелумаб («Бавенсио», Bavencio) одобрен Минздравом для применения в монорежиме в качестве препарата для поддерживающей терапии 1-й линии у взрослых пациентов с местно-распространенным или метастатическим уротелиальным раком без признаков прогрессирования заболевания после окончания химиотерапии на основе препаратов платины. Такое решение Минздрав принял вслед за FDA, которое утвердило данное показание авелумаба 30 июня 2020 года, и вслед за EMA, которое поступило аналогичным образом 10 декабря того же года.
Аналогов нет
Исследование JAVELIN Bladder 100 (NCT02603432), обнадеживающие результаты которого стали основанием для регистрации нового показания, считается первым в мире исследованием, в котором получены доказательства эффективности включения моноклональных антител в поддерживающую терапию у пациентов с местно-распространенным и метастатическим уротелиальным раком. Другие подобные препараты в 1-й линии терапии у этих пациентов не повлияли на общую выживаемость. Заместитель генерального директора по науке НМИЦ радиологии Минздрава России д.м.н. Борис Алексеев уточнил, что недавно были опубликованы результаты исследования с похожим дизайном, в котором применение пембролизумаба в поддерживающем режиме после химиотерапии не привело к увеличению общей выживаемости больных (первичная конечная точка не была достигнута).
«На сегодняшний день авелумаб – это единственный препарат, у которого есть такое показание, как поддерживающая терапия метастатического и местно-распространенного уротелиального рака после эффективной химиотерапии», – отметил Борис Алексеев.
Ведущий научный сотрудник отделения урологии НИИ клинической онкологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина д.м.н. Мария Волкова пояснила: «До недавнего времени в нашем арсенале существовал единственный эффективный подход к лечению неоперабельных местно-распространенных и детерминированных форм уротелиального рака – это химиотерапия. Но самые эффективные режимы химиотерапии – на основе цисплатина, противопоказания к которому имеют около 50 % больных. А медиана длительности ответа на цисплатинсодержащую химиотерапию составляет 7,4 мес. Естественно, что оптимальным решением являлось бы длительное проведение системной противоопухолевой терапии, которая позволяла бы сохранить пациентов в состоянии достигнутого ответа на лечение. Но химиотерапия токсична, проводить ее до бесконечности невозможно. Поэтому суть регистрации препарата для поддерживающей терапии, который хорошо переносится больными, заключается в том, что пациенты не будут находиться без лечения в ожидании того момента, когда у них начнется прогрессирование. Терапия авелумабом – это способ продлить достигнутый химиотерапией эффект».
Результаты исследования
JAVELIN Bladder 100 – многоцентровое рандомизированное открытое исследование III фазы. В нем приняли участие 700 пациентов с неоперабельным местно-распространенным или метастатическим уротелиальным раком, который не прогрессировал после 4–6 циклов химиотерапии 1-й линии на основе препаратов платины (гемцитабином с цисплатином или карбоплатином). Одна группа пациентов получала авелумаб внутривенно каждые 2 недели в дополнение к наилучшей поддерживающей терапии, другая группа (контрольная) проходила только поддерживающую терапию. Лечение было начато в течение 4–10 недель после завершения химиотерапии.
Доза авелумаба составляла 800 мг. Препарат вводили внутривенно в течение 60 мин каждые 2 недели до прогрессирования заболевания или развития неприемлемых токсических реакций.
Первичной конечной точкой была общая выживаемость в общей выборке пациентов и в выборке пациентов, у которых выявлена экспрессия PD-L1 в клетках опухоли. Вторичные конечные точки – выживаемость без прогрессирования и безопасность.
В общей выборке однолетняя общая выживаемость составила 71,3 и 58,4 % в группе авелумаба и в контрольной группе соответственно, а медиана общей выживаемости – 21,4 и 14,3 мес. соответственно (отношение рисков смерти 0,69; 95 % ДИ 0,56–0,86; р = 0,001). Медиана выживаемости без прогрессирования равнялась 3,7 и 2,0 мес. в группе авелумаба и в контрольной группе соответственно (отношение рисков прогрессирования заболевания или смерти 0,62; 95 % ДИ 0,52–0,75).
В выборке пациентов с экспрессией PD-L1 однолетняя общая выживаемость достигла 79,1 % в группе авелумаба и только 60,4 % в контрольной группе (отношение рисков 0,56; 95 % ДИ 0,40–0,79; р < 0,001). Медиана выживаемости без прогрессирования составила 5,7 и 2,1 мес. соответственно в группе авелумаба и в контрольной группе (отношение рисков 0,56; 95 % ДИ 0,43–0,73).
Отметим, что эффективность препарата в выборке пациентов, у которых выявлена экспрессия PD-L1, была немного выше, притом что прогноз у таких пациентов, как правило, хуже. Значит ли это, что перед назначением препарата необходима молекулярно-генетическая диагностика для выявления этих пациентов? Мария Волкова подчеркнула, что разница результатов между поддерживающей терапией с включением авелумаба и плацебо была значимой независимо от экспрессии PD-L1, поэтому в клинической практике нет необходимости устанавливать уровень экспрессии PD-L1 в опухоли. «Он дает преимущество и при наличии экспрессии, и при отсутствии экспрессии», – согласился Борис Алексеев.
«На мой взгляд и на взгляд экспертной группы, формирующей проект клинических рекомендаций по раку мочевого пузыря, независимо от экспрессии PD-L1 авелумаб должен применяться для поддерживающей терапии у больных уротелиальным раком, у которых получен частичный ответ или достигнута стабилизация на фоне стандартной химиотерапии цитотоксического действия, основанной на препаратах платины», – резюмировала Мария Волкова.
Нежелательные явления (возникшие по любой причине) наблюдались у 98,0 % пациентов в группе авелумаба и у 77,7 % в контрольной группе. Наиболее частыми нежелательными явлениями у пациентов, получавших авелумаб, были усталость, боли в опорно-двигательном аппарате, инфекции мочевыводящих путей и сыпь. Частота нежелательных явлений III степени и выше составила 47,4 и 25,2 % соответственно.
Результаты исследования были опубликованы в New England Journal of Medicine в сентябре 2020 года.
Российские перспективы
Итак, во всем мире существует острая потребность в эффективных методах 1-й линии лечения, которые обеспечивали бы длительный контроль над уротелиальным раком и характеризовались приемлемой безопасностью, которая непосредственно связана с качеством жизни пациентов. И эта потребность теперь удовлетворена.
«Это важный этап развития лечения метастатического рака мочевого пузыря, и не только его, но и в целом уротелиального рака, – комментирует ситуацию Борис Алексеев. – Потому что у большинства больных мы применяем для лечения химиотерапию, и у большинства мы добиваемся или уменьшения размеров опухолевых очагов, или стабилизации процесса, а иногда, редко конечно, достигаем полного исчезновения всех метастатических очагов – то есть у большинства пациентов болезнь не прогрессирует на фоне химиотерапии. Но проблема в том, что мы можем провести максимум 6 курсов. Дальше, к сожалению, болезнь прогрессирует, причем достаточно быстро, чаще в течение первых нескольких месяцев. И собственно, проблема в том, что дальше нам еще сложнее лечить больных, потому что ту же линию химиотерапии применять бессмысленно. Вторая линия гораздо реже срабатывает. И вот эта зарегистрированная поддерживающая терапия авелумабом как раз позволяет из этой ситуации выйти. Тоже, конечно, не всем больным, но достаточно большому проценту. Мы назначаем авелумаб и таким образом продлеваем период течения болезни без прогрессирования, иногда на очень длительный срок – если срабатывает авелумаб (это, к сожалению, тоже не у всех происходит). Эта стратегия очень правильная, очень нужная и, думаю, найдет широкое применение».
В клинических рекомендациях «Рак мочевого пузыря», утвержденных в 2020 году, авелумаба нет в числе перечисленных препаратов, как и в соответствующих стандартах медпомощи, что закономерно. Но насущная потребность в препарате с такими показаниями очевидна настолько, что авелумаб уже включен в проект клинических рекомендаций и находится на рассмотрении в Научном центре экспертизы средств медицинского применения Минздрава России.
«Препарат с 99%-ной вероятностью будет включен в следующую версию клинических рекомендаций, – считает Мария Волкова. – В настоящее время он фигурирует в ней, просто еще не внесен в проект бюджета, на что, собственно, и направлено рассмотрение вышестоящих инстанций. Я очень надеюсь, что до декабря месяца это будет сделано. Я не вижу никаких юридических или исследовательских обоснований, которые могли бы этому препятствовать. Хотя, конечно, препятствовать может цена вопроса».
Рекомендация в проекте звучит следующим образом: «Рекомендуется пациентам с неоперабельным местно-распространенным или диссеминированным уротелиальным раком мочевого пузыря, достигшим контроля над опухолью (частичный ответ или стабилизация опухолевого процесса) после 4–6 циклов химиотерапии, основанной на препаратах платины, проведение поддерживающей терапии авелумабом. Уровень убедительности рекомендаций – А (уровень достоверности доказательств – 2)».
Оплата лечения
«Что касается финансирования лечения авелумабом, его будет оплачивать система ОМС, там должна быть введена соответствующая КСГ. Хотя есть, в принципе, КСГ для оплаты применения авелумаба при лечении карциномы Меркеля, можно пользоваться этой КСГ, – указывает Борис Алексеев. – Поэтому, я так понимаю, на сегодняшний день лечение препаратом финансово уже достаточно обеспечено и дальше, надеюсь, тоже будет обеспечиваться. Он улучшает выживаемость, причем существенно. Уровень выживаемости у больных на поддерживающей терапии авелумабом один из самых высоких в группе пациентов с уротелиальным метастатическим раком. Все ведущие профессиональные сообщества – и онкологические, и урологические – этот вариант терапии включили в свои рекомендации, и думаю, что Россия тоже включит».
Можно ли использовать упомянутую КСГ при кодировании случаев назначения авелумаба для поддерживающей терапии уротелиального рака – вопрос открытый. В целом схема применения авелумаба sh0769 относится к диапазону диагнозов C00–C80. Однако есть одно препятствие для этого. Дело в том, что в этой схеме доза авелумаба составляет 10 мг/кг. В проекте же клинических рекомендаций «Рак мочевого пузыря» указана другая доза, соответствующая обновленной инструкции, – 800 мг. Как быть в этой ситуации? Возможно несколько решений.
- Если подходить строго, то для назначения препарата для поддерживающей терапии уротелиального рака в дозировке 800 мг нужно использовать КСГ sh9001 и sh9002 («Прочие схемы лекарственной терапии»). Однако она оплачивается минимально.
- Если принять на себя все риски назначения офф-лейбл, то можно в обход клинических рекомендаций и инструкции назначить дозу 10 мг/кг и использовать КСГ sh0769.
История препарата
Метастатический и местно-распространенный уротелиальный рак – это третье показание к назначению авелумаба, которое на данный момент зарегистрировано. А первое показание, с которым авелумаб был выпущен на мировой фармрынок в 2017 году, – метастатическая карцинома Меркеля у взрослых пациентов. Это стало прорывом в лечении данного редкого и агрессивного рака кожи, для которого ранее не существовало эффективного системного лечения. Режимы с включением антрациклинов, антиметаболитов, циклофосфамида, этопозида и производных платины характеризовались высокой токсичностью и не обеспечивали значительное увеличение выживаемости. В исследовании II фазы было констатировано отсутствие эффекта иматиниба. Случаи успешного применения пазопаниба были единичными.
FDA одобрило это показание в ускоренном порядке в марте 2017 года на основании данных открытого многоцентрового клинического исследования II фазы JAVELIN Merkel 200 (NCT02155647), продемонстрировавшего клинически значимую и длительную частоту общего ответа. Это первый одобренный FDA способ лечения метастатической карциномы Меркеля.
Позже, на основании результатов исследования III фазы Javelin Renal 101(NCT02684006), было добавлено еще одно показание – распространенный почечно-клеточный рак. Было доказано, что применение комбинации авелумаба с акситинибом в сравнении с терапией сунитинибом снижает риск прогрессирования заболевания или смерти.
EMA дало разрешение на применение авелумаба для лечения метастатической карциномы Меркеля в сентябре 2017 года, а для терапии 1-й линии распространенного почечно-клеточного рака в комбинации с акситинибом – в сентябре 2019 года.
В России официально препарат был зарегистрирован только в ноябре 2019 года, хотя эффективность в лечении карциномы Меркеля изучалась и ранее. Препарат вошел в клинические рекомендации по диагностике и лечению данного заболевания, причем в соответствии с официальной инструкцией по применению, в отличие от пембролизумаба и ниволумаба, рекомендованных в данном документе для назначения офф-лейбл. И стал единственным препаратом в России, включенным в стандарт медпомощи при IV стадии карциномы Меркеля.
Распоряжением Правительства России от 23.11.2020 № 3073-р авелумаб был включен в перечень ЖНВЛП с 1 января 2021 года.
В декабре 2020 года Минздрав одобрил применение авелумаба в сочетании с акситинибом для лечения пациентов с распространенным почечно-клеточным раком, ранее не проходивших системной лекарственной терапии. Нужно подчеркнуть, что Минздрав России впервые одобрил использование блокатора PD-L1 в комбинированной схеме лечения таких пациентов. Данная комбинация упоминается в актуальных клинических рекомендациях по диагностике и лечению рака паренхимы почки: она рекомендована в качестве альтернативы в 1-й линии лечения пациентов со светлоклеточным почечно-клеточным раком, относящихся к группам благоприятного, промежуточного и неблагоприятного прогноза. Отметим, что и здесь указанная доза (10 мг/кг) не соответствует обновленной инструкции (800 мг), а применение авелумаба рассматривается как офф-лейбл, что объясняется, видимо, тем, что клинические рекомендации были написаны до обновления инструкции и внесения в нее почечно-клеточного рака как показания. В новом проекте этого документа это несоответствие исправлено так: предлагается назначать дозу 10 мг/кг или 800 мг.

Компании объявили в ноябре 2014 года о создании стратегического альянса для совместной разработки и продвижения авелумаба на рынок.
Авелумаб – человеческое антитело к лиганду 1 типа белка программируемой клеточной смерти (programmed death ligand-1, PD-L1). Препарат блокирует взаимодействие между PD-1 и рецепторами PD-L1, устраняя подавление T-клеточного противоопухолевого иммунного ответа.
Ингибиторы иммунных контрольных точек обладают активностью в отношении уротелиальной карциномы. Ингибиторы PD-L1 (атезолизумаб, авелумаб и дурвалумаб) и ингибиторы PD-1 (ниволумаб и пембролизумаб) были одобрены в США в 2016–2017 годах для лечения прогрессирующего уротелиального рака, однако полученные в ускоренном порядке утверждения атезолизумаба и дурвалумаба были отозваны в 2021 году после провала рандомизированных испытаний.
Читайте подробнее в нашей статье.
Наилучшая поддерживающая терапия, или оптимальная поддерживающая терапия (best supportive care), определяется по-разному, как указывают в своем обзоре D. Hui и соавторы. В рассматриваемом исследовании она могла включать (на усмотрение лечащего врача) лечение антибиотиками, нутритивную поддержку, коррекцию метаболических нарушений, симптоматическую терапию, обезболивание и т. д. Она также могла включать паллиативную лучевую терапию, но не включала никакой активной противоопухолевой терапии (однако лучевая терапия изолированных очагов с паллиативными целями считалась допустимой). (BSC will be administered as deemed appropriate by the treating physician, and could include treatment with antibiotics, nutritional support, correction of metabolic disorders, optimal symptom control and pain management (including palliative radiotherapy), etc. BSC does not include any active anti-tumor therapy, however local radiotherapy of isolated lesions with palliative intent is acceptable.)
Эта доза (10 мг/кг) фигурировала в инструкции к препарату до 23 ноября 2020 года, т. е. до обновления.
В исследовании общий объективный ответ наблюдался у 28 (31,8 %) из 88 пациентов, в том числе у 8 – полный. На момент анализа ответ сохранялся у 23 (82 %) из 28 пациентов.
Медиана выживаемости без прогрессирования в выборке пациентов с экспрессией PD-L1 составила в группе авелумаба и акситиниба 13,8 мес. (95 % ДИ 10,1–20,7 мес.), а в группе сунитиниба 7,0 мес. (95 % ДИ 5,7–9,6 мес., р < 0,0001), отношение рисков 0,62 (95 % ДИ 0,490–0,777, р < 0,0001. В общей популяции этот показатель составил соответственно 13,3 мес. (95 % ДИ 11,1–15,3 мес.) и 8,0 мес. (95 % ДИ 6,7–9,8 мес.), отношение рисков 0,69 (95 % ДИ 0,574–0,825), р < 0,0001.
Актуальной на момент утверждения клинических рекомендаций.
Напомним, что применяемые офф-лейбл препараты, даже указанные в клинических рекомендациях, не могут быть включены в стандарты медпомощи.

- доктор медицинских наук
- профессор
- ученый секретарь Российского общества онкоурологов
- ответственный секретарь журнала «Онкоурология»

- доктор медицинских наук
- профессор
- ученый секретарь Российского общества онкоурологов
- ответственный секретарь журнала «Онкоурология»

- доктор медицинских наук
- модератор рабочей группы РООУ по разработке клинических рекомендаций по раку почки

- доктор медицинских наук
- модератор рабочей группы РООУ по разработке клинических рекомендаций по раку почки

- доктор медицинских наук
- профессор
- ученый секретарь Российского общества онкоурологов
- ответственный секретарь журнала «Онкоурология»

- доктор медицинских наук
- модератор рабочей группы РООУ по разработке клинических рекомендаций по раку почки

- доктор медицинских наук
- профессор
- ученый секретарь Российского общества онкоурологов
- ответственный секретарь журнала «Онкоурология»

- доктор медицинских наук
- модератор рабочей группы РООУ по разработке клинических рекомендаций по раку почки

- доктор медицинских наук
- профессор
- ученый секретарь Российского общества онкоурологов
- ответственный секретарь журнала «Онкоурология»



















