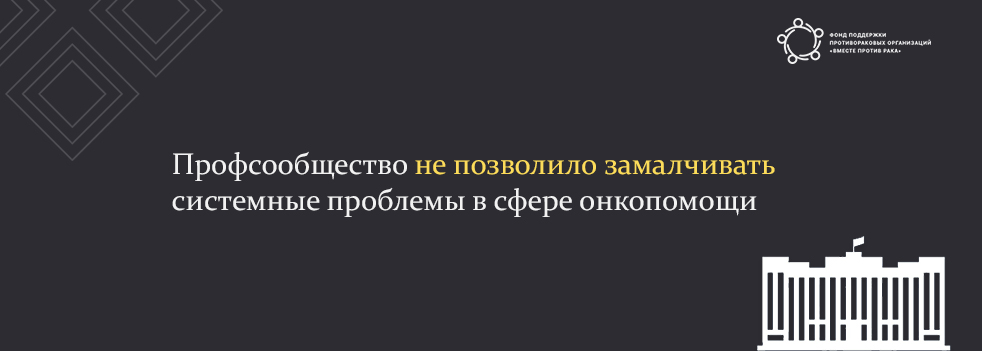
Хирургия – на выход!
Мероприятие «Совершенствование законодательного, организационного и финансового обеспечения оказания онкологической помощи в Российской Федерации», в принципе, выполнило свою задачу, дав ответы по всем перечисленным в его названии пунктам. В качестве модератора выступил руководитель экспертного совета комитета Госдумы по охране здоровья по онкологии, гематологии и клеточным технологиям академик Александр Румянцев. Затронуты проблемы законодательного регулирования (это признал даже главный онколог Минздрава Иван Стилиди), немало претензий прозвучало к организационному обеспечению онкопомощи (в том числе от Росздравнадзора), не говоря уже о финансовых проблемах отрасли и неэффективной тарификации.

В законодательной части действительно произошли революционные изменения. Несколько экспертов отметили однозначно положительный эффект декабрьских поправок к федеральному закону №323-ФЗ: благодаря им медицинские учреждения смогут закупать препараты офф-лейбл для лечения детей, а детские больницы продолжат лечить своих пациентов не до 18 лет, как прежде, а до 21 года.
Правда, как это нередко бывает, безусловно позитивные изменения пока представляют собой полумеры. Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая указала, что в направлении легализации препаратов офф-лейбл Минздрав не сделал пока дополнительных шагов, т. е. не принял подзаконные акты: «У министерства есть срок до лета, и мы фактически входим скоро в весну, а решений пока нет; я предлагаю, чтобы те подзаконные нормативные акты, которые будут разработаны в обеспечение принятого федерального закона, были направлены в парламент и обсуждались на площадке профильного комитета».
Предметом горячей дискуссии ожидаемо стал приказ Минздрава №116н, т. е. новый порядок оказания онкологической помощи взрослым.
«Данный приказ является сейчас основным вопросом онкослужбы нашей страны, – сказал в своем выступлении президент фонда “Вместе против рака” Баходур Камолов. – Новый порядок фактически ликвидирует сформированные хирургические коллективы, которые выстраивались по всей стране в течение десятилетий в первую очередь для того, чтобы помочь нам, онкологам, справиться с нескончаемым потоком пациентов. Двадцать лет назад онкослужба задыхалась от колоссального количества больных, которые не дожидались лечения и погибали в многомесячном ожидании госпитализации. И я хочу верить, что мы больше не вернемся в те дремучие времена».

Б.Ш. Камолов, к.м.н., президент фонда «Вместе против рака»
«Мое предложение – дать возможность федеральным центрам консультировать клиники, оказывающие онкопомощь, но не лишать полностью эти клиники работы. Нельзя лишать хирургов многопрофильных, узкопрофильных, специализированных, ведомственных и иных учреждений права оперировать онкопациентов», – сказал Баходур Камолов.
«Ответ на этот вопрос лежит в плоскости реального состояния медицины, – считает Ирина Яровая. – Если мы будем в каждом регионе иметь высококлассный онкологический центр, тогда можно вести речь о том, что да, лечить только в онкологических центрах. Этот вопрос нужно изучать, глядя на карту нашей страны и на реальное состояние медицины».
Баходур Камолов убежден, что новый порядок и профстандарт врача-онколога скоро приведут к жесточайшему дефициту хирургической помощи «и, как следствие, к ухудшению целевых показателей федеральной программы, а также к повышению спроса на платные медицинские услуги, что в нашей стране грозит социальным напряжением». По его данным, доля стандартных онкологических операций достигает 80–90%, и с ними прекрасно справляются хирурги других специализаций: половина онкологических операций сегодня выполняется вне онкологической службы. Новый порядок фактически «дискредитирует компетенции большого числа отличных хирургов».
Сокращение и закрепощение
Новый порядок критикуют и за непродуманную маршрутизацию пациентов и создание нового звена – центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).
При этом Иван Стилиди убежден, что новый порядок однозначно упрощает механизм обследования пациента: «Создание ЦАОПов предполагает комплексное высокопотоковое и качественное обследование больного с учетом доступности и приближенности к месту жительства. Тезис, который активно муссируется, о том, что у пациента отобрали право выбора медицинского учреждения, несостоятелен. Приказ не вводит дополнительные ограничения возможностей обращения в различные клиники. И раньше в субъектах РФ существовали приказы о маршрутизации. Пациент, проживающий на определенной территории, может обратиться в соответствующую медицинскую организацию, и ему не имеют права отказать. Да, есть нюансы, но невозможно все сразу выстроить по мановению волшебной палочки».
Некоторое «закрепощение» пациентов главный онколог все-таки признает, но видит в нем даже преимущество: «Это позволит избежать ситуации, когда клиники отбирают легких, удобных пациентов и отказывают осложненным, с рецидивами».
«Закрепление онкобольного не только за его регионом, но и за конкретным лечебным учреждением противоречит закону “Об основах охраны здоровья граждан РФ”, – возразил глава фракции в Госдуме депутат Сергей Миронов. – Логика понятна. На федеральные деньги построены суперсовременные, уникальнейшие онкологические центры во многих субъектах. Построить-то мы их построили, а что с кадрами, что с техникой, с расходными материалами, ремонтом?»
На этот вопрос довольно наглядно ответила замруководителя Росздравнадзора Ирина Серегина, рассказав о результатах проверок надзорного органа: «В первичном звене отмечается низкая онкологическая настороженность специалистов, неравномерное распределение объемов медицинской помощи, выделенных на проведение химиотерапии в условиях дневного стационара, между ЦАОПами и диспансерами. Мы практически везде фиксируем, что, распределяя объемы, регионы не задумываются над тем, где живет пациент. В Московской области людей из Серпуховского района направляют на восток или на запад».
В адрес ЦАОПов поступают жалобы на несоблюдение сроков консультаций и диагностических исследований.
Согласно паспорту БОЗ к 2024 году в России должно быть организовано не менее 420 ЦАОПов. По информации Минздрава, озвученной на круглом столе, сейчас создано уже 405 ЦАОПов в 79 регионах.
Методические рекомендации расширяют положение приказа №116н о маршрутизации, предъявляя конкретные требования к региональным приказам о маршрутизации. Такие приказы должны определять:
- допустимые виды, условия и формы оказания медпомощи в каждой конкретной организации, а также виды и методы лечения онкозаболеваний, при которых медпомощь оказывается в ЛПУ на территории субъекта РФ (их перечень утверждается этим же приказом);
- перечень заболеваний, видов диагностик и методов лечения, при которых пациент может быть направлен за пределы субъекта (и перечень конкретных медорганизаций).
При этом критерии включения медорганизаций в вышеупомянутые перечни не определены. Анализ вступивших в силу региональных приказов свидетельствует о том, что большинство таких организаций являются государственными.
Хорошая мина при плохой игре
«В целом мы видим разрозненность сети медицинских организаций, – констатирует Ирина Серегина. – Они не представляют собой целостную систему онкологической помощи. Считаем, что это недоработка главных внештатных специалистов. Поступают жалобы на простой тяжелого высокотехнологичного оборудования из-за отсутствия персонала, поломок. По итогам 2021 года 3,4% оборудования не введено в эксплуатацию».
Но при этом, по данным Росздравнадзора, сократилось количество проверок (в 2021 году – 779 плановых и внеплановых проверок, в 2020 году – 1087), обращений и жалоб. Например, в Дальневосточном и Сибирском округах примерно на 50% сократилось число жалоб на доступность лекарственного обеспечения. Претензии к качеству и безопасности медицинских услуг стали чаще только в Дальневосточном округе (на 16%) и в Уральском (на 4,5%).
Отчет подведа Минздрава России оголяет противоречие между фактами и позицией разработчиков нового онкопорядка. С их слов, предпосылками для создания новых требований стало низкое качество оказания онкологической помощи клиниками вне онкослужбы. Однако это не подтверждается ни обращениями граждан, ни иными юридически значимыми доказательствами. Это дает право усомниться либо в достоверности отчета, либо в мотивах разработчиков.
Богачи и бедняки
Возможно, обнадеживающая динамика объясняется не повышением качества помощи, а драматичным влиянием пандемии коронавирусной инфекции?
«Эпидобстановка 2020–2021 годов негативно сказалась на качестве оказания онкологической помощи, – признал замминистра здравоохранения Евгений Камкин. – Из-за ковида повысилась доля пациентов с онкозаболеваниями, выявленными на поздних стадиях. По данным фонда ОМС, в 2020 году прошли профилактические медосмотры 3,3 млн взрослых, что в три раза меньше, чем в 2019 году. Диспансеризацию прошли 10,2 млн взрослых, это в два с половиной раза меньше».
При этом, по сведениям Евгения Камкина, в стране развернута серьезная информационная кампания по борьбе с онкологическими заболеваниями, создан специальный портал Onco-life, который (сложно поверить) в совокупности дает 820 млн контактов. Озвученный показатель наводит на мысли о поддержке портала Минздрава России коллегами из Индии или Китая, что неудивительно, ведь на портал выделяется ежегодно по 40 млн рублей – это позволяет провести какую угодно широкую рекламную кампанию. Особенно если учесть очевидно скромные бюджеты на содержательную часть онкопортала.

А.Ю. Кузнецова, заместитель Председателя Государственной Думы; С.М. Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду»
Продолжает расти и финансирование онкопомощи.
«В 2019 году в рамках БОЗ нам было направлено 70 млрд рублей, в 2020 году – 115 млрд, в последующие годы будет по 135 млрд, – привела цифры зампредседателя ФФОМС Ольга Царева. – Всего на онкопомощь в 2021 году выделено 303,3 млрд рублей, это в полтора раза больше, чем в 2019 году».
Но даже в условиях падения «спроса» и роста объемов финансирования онкопомощь продолжает «голодать». Особенно это заметно по детям.
«Организация детской онкологической помощи – это в первую очередь создание инфраструктуры. Должны быть качественные больницы, качественное оборудование. Невозможно назначать детям без иммунитета суперинтенсивную химиотерапию в старых больницах без вентиляции. Семьдесят процентов таких учреждений требуют ремонта, многие просто находятся в ветхом состоянии, – рассказала главный детский онколог-гематолог Галина Новичкова. – Много клиник не имеют специализированных хирургических и реанимационных коек. В лабораториях большой части клиник в принципе невозможно поставить правильный диагноз. Пятьдесят процентов учреждений не имеют аппаратов МРТ. Невозможно без МРТ вовремя диагностировать динамику и осложнения. С учетом мирового опыта детские онкоотделения должны располагаться в многопрофильных детских больницах, где есть все специалисты и все необходимое оборудование».
Более того, врач не понимает, почему программа БОЗ совсем игнорирует детей, которые тоже болеют раком, хотя и в 130 раз реже, чем взрослые. «Мы очень рады, что есть программа борьбы с онкологическими заболеваниями. Но не понимаем, почему 1% из этой программы нельзя отдать в детские больницы на оборудование и ремонт, – недоумевает специалист. – Детская онкологическая помощь испытывает острый дефицит финансирования. Тарифы ОМС не покрывают стоимости лечения, и об этом все знают».
В НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева рассчитали стоимость курса терапии для назофарингеальной карциномы – не только лечения, но и по всем остальным статьям, включая расходные материалы, амортизацию оборудования, зарплаты, налоги. Стоимость двухнедельного курса составила 450 тыс. руб., в то время как в федеральном тарифе заложено 250 тыс., а в региональных – еще меньше.
«И в каждом регионе тарифы разные, – подчеркнула Галина Новичкова. – В некоторых регионах целевого финансирования детской онкологической помощи нет вообще. По 10 лет не закупается оборудование, нет сервиса старого оборудования. Тарифы надо пересматривать и приводить в соответствие с затратами. Мы понимаем, что есть дотационные регионы, но вне зависимости от того, где человеку суждено родиться и жить, каждый имеет право на качественную и безопасную медицинскую помощь».
При этом в ФФОМС считают, что с финансированием, особенно НМИЦ, все в порядке.
«С прошлого года фонд ОМС финансирует федеральные госучреждения напрямую, – сказала Ольга Царева. – Первоначально предусматривалось 119,4 млрд рублей, но в середине прошлого года приняли решение направить дополнительно 25 млрд. В итоге мы существенно нарастили финансирование крупнейших федеральных клиник, которые оказывают медицинскую помощь в том числе и детям. В программе госгарантий у нас предусмотрено финансирование молекулярно-генетических и патолого-анатомических исследований, необходимых для корректного назначения терапии. Запланирована серьезная работа в связи с выходом постановления о формировании программы государственных гарантий на 2023 год с учетом всех имеющихся на 1 июня клинических рекомендаций и стандартов, поэтому совместно с Минздравом в течение года будет проводиться актуализация тарифов».
Но, видимо, объем финансирования исследований все-таки отстает от реальной потребности. По словам Сергея Миронова, он как депутат получает от граждан жалобы на этот счет.
«Чтобы поставить качественный и обоснованный диагноз, необходимо провести исследования, и зачастую больной должен это делать за свои деньги, – заметил Сергей Миронов. – Стоимость исследований доходит до 30 тыс. руб., многим они просто не по карману, а без результатов не госпитализируют и не начинают лечения. Вопрос: почему, финансируя государственную систему медицинского страхования, люди должны платить за то, что прописано в медицинских стандартах?»
По данным ФФОМС, в 2021 году профинансированы 172 253 молекулярно-генетических исследования стоимостью по 9,9 тыс. руб. Также будет оплачено 2 081 781 патолого-анатомическое исследование биопсийного материала, каждое из которых стоит 2,1 тыс. руб.
Финансирование в этой части в 2022 году снизилось. Так, норматив финансовых затрат на 1 застрахованное лицо составляет 8174,2 руб. при нормативе объема исследований 0,00092. В прошлом году данные показатели составляли 9879,9 руб. и 0,001184 соответственно. Уменьшился и средний норматив финансовых затрат на патолого-анатомическое исследование – 2021,3 руб. вместо 2119,8 руб. в 2021 году. Норматив объема исследований на 1 застрахованное лицо в 2022 году также уменьшился – 0,01321 против 0,01431 в прошлом году.
Влияние Востока, или Системы нет
Лучезарную картину оказания онкологической помощи нарисовал второй главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн: «В 2020 и 2021 годах ключевым и очень мудрым решением министерства было продолжение работы профильных онкологических отделений, что позволило не уменьшить объем онкологической помощи. Например, в Швеции сложилась настоящая трагедия из-за того, что в связи с ковидом были закрыты почти все крупные онкологические отделения. С 1950-х годов в Японии каждый год проходят законодательные совещания, посвященные онкологической службе, – и как много они достигли. Теперь и наши онкологи находятся в законодательном пуле».

Л.А. Огуль, первый заместитель Председателя Комитета по охране здоровья (справа)
Академик довольно подробно остановился на новом регулировании производства радиофармпрепаратов, рассказал о достижениях в системе выдачи баллов НМО, подтвердил гипотезу о влиянии Востока на отечественную онкослужбу, однако, в отличие от другого главного внештатного онколога – Ивана Стилиди, который большую часть своего выступления посвятил новому порядку №116н, – ни словом не обмолвился о главном нормативном акте этого года.
Депутаты Госдумы, работающие с обращениями граждан, не разделили энтузиазма внештатных онкочиновников.
«Существуют вопросы, требующие решения на уровне Министерства здравоохранения и региональных структур, – заявила Ирина Яровая. – Не во всех регионах есть онкоцентры и специалисты должной квалификации. Человеку ставят этот страшный диагноз, и он начинает хаотичные поиски. Сегодня мы ждем алгоритма маршрутизации от министерства. Важный вопрос – создание федеральных онкоцентров на уровне межрегионального взаимодействия. Отдельная тема – квотирование, пролонгированная квота. Она дорогостоящая, но она должна охватывать весь период, в который пациенту требуется помощь. Не урывками и с понуждением, когда от пациента требуют возвращаться в свой регион за справкой, чтобы продолжить лечение».
Столкнувшись с большим количеством обращений от граждан, Ирина Яровая пришла к выводу, что стройной системы оказания онкологической помощи у нас нет. «Должна работать система, при которой, как только у человека заподозрили онкологическое заболевание, он не будет ходить по кабинетам чиновников, писать в Госдуму, а сразу попадет в медицинское учреждение, где с ним будут работать и спасать его жизнь», – говорит депутат.

И.А. Яровая, заместитель Председателя Государственной Думы
Ее коллега Сергей Миронов весьма критически настроен по отношению к законодательным новациям Минздрава и ситуации в целом: «С 1 января началась оптимизация именно в онкологии. Огромное количество вопросов не решено. В конце прошлого года я провел видеоконференцию с онкологами, с экспертами. Они высказывали опасения, что многие пациенты столкнутся с невозможностью получить квалифицированную и необходимую именно им помощь в своем субъекте РФ. Нельзя не сказать о проблеме обеспечения лекарствами – нет соответствующих импортных лекарств, а дженерики, к сожалению, не всегда эффективны».
«Еще вопрос о врачах-онкологах, которых катастрофически не хватает в нашей стране. Здесь необходимо системное решение, и я надеюсь, что у Министерства здравоохранения есть свои предложения», – поднял другую проблему депутат. Он напомнил, что правительство собиралось в 2022 году начать внедрение новой методики расчета размеров оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала. Были выбраны 7 пилотных регионов. Но недавно Минздрав вдруг перенес начало эксперимента на 2023 год. Сергей Миронов потребовал от правительства «рассмотреть этот вопиющий факт и немедленно приступить к реализации пилотного проекта, потому что врачи и средний медперсонал очень ждут, чтобы их труд оплачивался адекватно».
Минздрав сообщает, что сегодня помощь пациентам оказывают 89 онкодиспансеров, 3 онкологические больницы и иные многопрофильные организации. Ведомство насчитало в 2020 году почти 36 тыс. онкологических коек.
Однако анализ состояния онкопомощи в субъектах РФ свидетельствует о том, что федеральные данные не всегда соответствуют действительности. Так, в некоторых субъектах РФ количество диспансеров (например, в Республике Дагестан, Курской области, Калининградской области, Кировской области, Республике Чечня) и коечная мощность (в Республике Чувашия, Алтайском крае, Курганской области, Пермском крае) отличаются от официальных данных Минздрава.
Чтобы отслеживать подобные проблемы, в феврале 2022 года наш фонд запускает проект ONCO-monitor. Проект направлен на сбор объективной статистики и мониторинг качества работы онкослужб в регионах, в частности после вступления в силу нового порядка.
Подводя итог круглого стола, хочется отметить, что Минздрав, несмотря на критику экспертного и профессионального сообщества, проблем не видит и даже не слышит. Об этом свидетельствует и однобокий «рапорт» самого Минздрава по результатам круглого стола.
Интересно, что в конце 2021 года заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву России доработать приказ №116н в срок до 20 декабря 2021 года. Однако вовремя это поручение Минздравом не исполнено: в приказ до сих пор не внесены изменения, а на сайте regulation.gov.ru опубликован проект изменений порядка, который не учитывает ни одно из наиболее важных предложений по его доработке (ID проекта 01/02/12-21/00123597). Фонд направлял запрос в Минздрав с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию, на который 1 февраля был получен следующий ответ: «Проект приказа будет подписан после прохождения всех предусмотренных процедур».
Процедуры процедурами, а общественность с нетерпением ждет нового проекта онкопорядка. Подписывайтесь на наши ресурсы и будьте всегда в курсе всех событий.

ЦАОП, согласно приказу №116н и методическим рекомендациям Минздрава России от 17 августа 2021 года, поглотит как первичное онкологическое отделение, так и первичный онкологический кабинет. Первичные отделения упраздняются полностью, а первичные кабинеты будут организованы только там, где отсутствует возможность создать ЦАОП.
Поручение от 06.12.2021 №ТГ-П12-17708 (п. 1).

- академик РАН
- доктор медицинских наук
- профессор
- член Комитета Госдумы РФ по охране здоровья
- научный руководитель ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России

- академик РАН
- доктор медицинских наук
- профессор
- главный внештатный онколог Минздрава России

- кандидат медицинских наук
- исполнительный директор Российского общества онкоурологов
- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета по охране здоровья Госдумы РФ

- кандидат медицинских наук
- исполнительный директор Российского общества онкоурологов
- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета по охране здоровья Госдумы РФ

- кандидат медицинских наук
- исполнительный директор Российского общества онкоурологов
- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета по охране здоровья Госдумы РФ

- академик РАН
- доктор медицинских наук
- профессор
- главный внештатный онколог Минздрава России

- доктор медицинских наук
- действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса

- доктор медицинских наук
- действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса

- кандидат медицинских наук

- кандидат медицинских наук

- доктор медицинских наук
- профессор
- главный внештатный детский специалист онколог-гематолог Минздрава России

- доктор медицинских наук
- профессор
- главный внештатный детский специалист онколог-гематолог Минздрава России

- академик РАН
- доктор медицинских наук
- профессор
- академик РАО
- заслуженный врач Российской Федерации
- директор МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
- главный внештатный онколог Минздрава России
- президент Ассоциации онкологов России

- академик РАН
- доктор медицинских наук
- профессор
- главный внештатный онколог Минздрава России

- доктор экономических наук























Врачи есть. Опытные онкологи, но их не используют по назначению. Например, я, д.м.н., онколог с 40 летним стажем, работаю районным онкологом в поликлинике ЦРБ. Принимаю больных, направляю в онкоцентр, а затем снова принимаю их с отказом в правильном лечении и про себя кляну всю эту прогнившую систему онкопомощи. А в центр меня не берут на работу, аргументируя отсутствием штатов. А скольким пациентам я смог бы помочь? Хотя бы советом.
За круглым столом не поднималась проблема профессионального выгорания. Нищенская зарплата, перегруженность и высокие требования вызывают отвращение к некогда любимой работе. На работу, как на каторгу. Поэтому приписки и вся остальная грязь. Все с нетерпением ждут окончания рабочего дня. Раньше так не было. Мы работали с удовольствием. Мы боролись с болезнью за здоровье и жизнь больного. Кто нибудь наконец подумает о врачах. Все новшества копируют на западе. Скопируйте наконец размеры оплаты труда врачей и сестер милосердия.