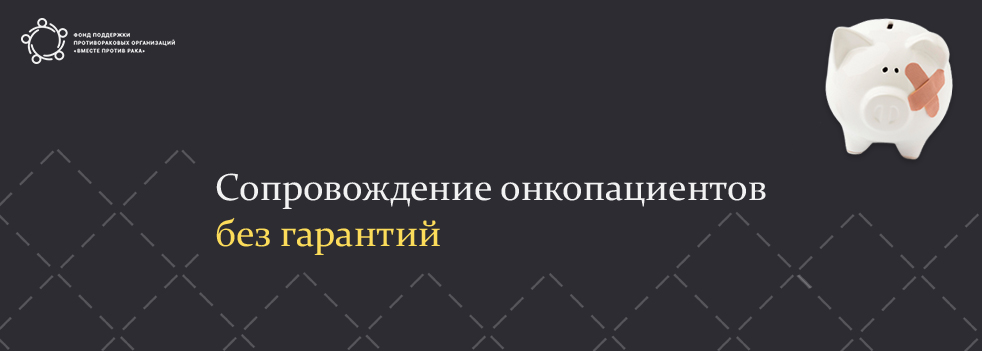
Основные цели самого дорогого федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который входит в национальный проект «Здравоохранение», – снижение смертности от онкозаболеваний и увеличение продолжительности и качества жизни больных. На реализацию федерального проекта до 2024 года включительно выделено 969 млрд руб. – это более половины всех денег, выделенных на национальный проект «Здравоохранение» (1,725 трлн руб.).
Качество и продолжительность жизни онкологических больных во многом зависит от того, насколько правильно и своевременно они получили сопроводительную терапию.
Сопроводительной терапии требует множество состояний: анемия, фебрильная нейтропения, тошнота и рвота, патология костной ткани, кардиоваскулярные, дерматологические и тромбоэмболические осложнения, мукозиты, иммуноопосредованные нежелательные явления, анорексия и кахексия, хронический болевой синдром.
На практике многие пациенты не получают сопроводительную терапию или получают ее в недостаточном объеме. Проблема лежит в области нормативно-правового регулирования вопроса. Она широко освещалась и в СМИ. «Коммерсантъ» посвятил ей две статьи: «Рак остался без сопровождения» и «Сложности с осложнениями».
Эта проблема, увы, не теряет своей актуальности. На справедливые заявления профессионального сообщества регулятор не реагирует конструктивно. Более того, если посмотреть проект схем КСГ на 2022 год, то станет ясно: чем дальше, тем больше ситуация будет усугубляться. Возможности пациентов будут совсем урезаны. Больницы же окажутся на распутье: с одной стороны – на кону жизнь пациента и голос врачебной совести, с другой стороны – нерешенный финансовый вопрос и неготовность государства оплачивать сопроводительную терапию.
Тарифы без финансового обеспечения – гарантия без гарантии
Расходы ЛПУ на госпитализацию пациентов с осложнениями на онкологические койки в настоящее время не возмещаются страховыми организациями или возмещаются не в полном объеме. Тарифы не позволяют – во-первых, потому, что профилактика и лечение таких осложнений вообще не предусмотрены онкологическими тарифами ОМС, за исключением фебрильной нейтропении. Тарифы для сопроводительной терапии и симптоматического лечения отнесены КСГ не к профилю «Онкология», а к другим профилям:
- «Прочее» (st36.012 и ds36.006 – злокачественное новообразование без специального противоопухолевого лечения),
- «Гематология» (st05.001 – анемии (уровень 1) и ds05.001 – болезни крови (уровень 1)) и некоторым другим.
Такие госпитализации попадают в категорию непрофильных, что влечет за собой не только финансово-юридические, но и клинические проблемы.
Соответственно, поскольку страховая компания не возместит расходы на сопроводительное лечение, онкоклиники не хотят госпитализировать онкопациентов с осложнениями. Сам факт непрофильной госпитализации входит в перечень оснований для отказа в оплате медпомощи или для ее уменьшения. Некоторые онкологические ЛПУ госпитализируют таких пациентов, но оплачивают сопроводительную терапию из собственных средств. Обычные же больницы не знают, как помочь онкопациентам с осложнениями, хотя онкологи нередко консультируют коллег из общей сети. Правильную помощь больным, например, с рвотой из-за химиотерапии могут оказать только специалисты-онкологи – у них есть и необходимые знания, и опыт. Получается, что госпитализация в непрофильные стационары плохо сказывается не только на ЛПУ, но и на самих пациентах.
Но непрофильность тарифа – не самая большая проблема. В целом системой не предусмотрены тарифы на профилактику и лечение осложнений онкопациентов, а имеющиеся глубоко дефицитны. Например, st36.012 и ds36.006 («злокачественное новообразование без специального противоопухолевого лечения») имеют низкие коэффициенты затратоемкости (0,5 и 0,4 соответственно), поэтому ориентировочные тарифы КСГ st36.012 и ds36.006 составляют около 12 тыс. руб. в круглосуточном стационаре и 5 тыс. руб. в дневном стационаре. Суммы не всегда покрывают фактические расходы на проведение сопроводительной терапии и не учитывают специфику лечения разных осложнений. К примеру, стоимость курса инфликсимаба, который используется для коррекции побочных эффектов иммунотерапии, может достигать десятков тысяч.
Однако и эти скромные деньги доходят до получателя лишь в редких случаях. Осложнения могут возникнуть уже в самом начале лечения онкологического заболевания, т. е. у пациента, госпитализированного по поводу онкодиагноза, а указанные тарифы могут быть использованы только при целевой госпитализации по поводу, например, фебрильной нейтропении. Получается, что должны быть возмещены расходы на лечение и онкозаболевания, и осложнения, но оплата одновременно по двум КСГ разрешена только в узком перечне случаев, к которым проведение сопроводительной терапии не относится. Фактически больницам предложено провести лечение осложнения за свой счет или выписать пациента, чтобы госпитализировать его повторно уже по поводу осложнения.
Исключение препаратов из схем терапии
В последнее время все чаще из системы ОМС исключаются схемы лекарственной терапии. В начале 2021 года под нож пустили препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, а в конце года «вспомнили» об и без того скудном списке препаратов для сопроводительной терапии (а начались изъятия еще в 2020 году: были исключены золедроновая и клодроновая кислоты, применяемые у онкобольных при костных патологиях).
В октябре 2021 года на сайте ЦЭККМП Минздрава России был размещен проект схем лекарственной терапии для лечения солидных опухолей. Анализ этого документа подтверждает тенденцию к ослаблению финансовых гарантий государства. В частности, существенно сократилось количество схем с препаратами, применяемыми для профилактики нейтропении, – филграстимом и эмпэгфилграстимом.
Напомним, что фебрильная нейтропения является по сути единственным состоянием, которое прямо учтено в онкологических тарифах: с 2018 года применяется отдельная КСГ при лечении фебрильной нейтропении и агранулоцитоза вследствие проведения лекарственной терапии злокачественных новообразований. Кроме того, в группировщике 2021 года имелся перечень схем лекарственной терапии, применяемых для профилактики фебрильной нейтропении, в частности при раке молочной железы, мочевого пузыря, пищевода и кардии, саркомах. Однако в проекте на 2022 год количество таких схем с филграстимом уменьшилось в разы: в круглосуточном стационаре с 32 до 20, в дневном – с 28 до 19, а количество схем с эмпэгфилграстимом в круглосуточном и дневном стационаре сокращено с 8 до 1.
Опрошенные фондом эксперты затруднились обозначить клинически оправданную причину подобных решений, ведь добавление гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (Г-КСФ) в дозо-уплотненные схемы позволяет проводить более эффективное противоопухолевое лечение.
Заместитель директора НИИ клинической онкологии по научной работе, заведующий химиотерапевтическим отделением № 2 НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина д.м.н., профессор Алексей Трякин обратил внимание на то, что из проекта схем исключили, например, одну из самых популярных схем – доксорубицин + циклофосфамид + филграстим, – применяемую при раке молочной железы (режим AC) и описанную в клинических рекомендациях (КР). Аналогичная информации содержится в практических рекомендациях по диагностике и лечению фебрильной нейтропении Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), согласно которым дозоуплотненный режим АС (1 раз в 2 недели) относится к режимам химиотерапии c высоким (>20 %) риском развития фебрильной нейтропении. Как указывается в этих же рекомендациях, при высоком прогнозируемом риске целесообразна первичная профилактика фебрильной нейтропении.
Эксперт высказал предположение, что, несмотря на исключение схемы, филграстим будет по-прежнему назначаться при режиме AC. Только медицинская организация будет применять его себе в убыток, либо пациентам придется на собственные средства закупать этот препарат, что более вероятно.
Если проект схем лекарственной терапии для лечения солидных опухолей будет утвержден, нарушится принцип формирования схем лекарственной терапии в группировщике КСГ на основе клинических рекомендаций.
Исключенные проектом схемы с филграстимом и эмпэгфилграстимом, кроме одной, имеются в действующих КР по лечению онкологических заболеваний. Подход регулятора противоречит Методическим рекомендациям по способам оплаты медицинской помощи за счет средств ОМС, согласно которым перечень схем лекарственной терапии в группировщике формируется путем извлечения данных из КР. Следовательно, все схемы из КР должны быть перенесены в группировщик.
Вместе с водой выплеснули и ребенка
Под предлогом исключения схем сопроводительной терапии были вычеркнуты деносумаб и октреотид. Однако деносумаб – как препарат, влияющий на структуру и минерализацию кости, – показан не только для сопроводительной терапии при костных патологиях у онкобольных, но и для лечения гигантоклеточной опухоли кости.
Напомним, что деносумаб как препарат для сопроводительной терапии был выведен из группировщика с 2020 года. Это становится ясно при анализе доз препарата, указанных в описании схемы. В 2021 году применение деносумаба описано так: 120 мг п/к в 1, 8, 15, 28-й дни первого месяца, затем 1 раз в 28 дней. Именно эта доза указана для лечения гигантоклеточной опухоли кости в инструкции к препарату и КР «Саркомы костей». Таким образом, исключение деносумаба из группировщика означает, что медорганизации не смогут возместить расходы на такое лечение и, как следствие, кардинально сократится его доступность для пациентов.
В свою очередь октреотид, применяемый при лечении нейроэндокринных опухолей, в 2021 году применялся в трех схемах монотерапии в круглосуточном и дневном стационаре, а также в комбинации с другими препаратами входил в 7 схем в круглосуточном стационаре и 10 схем в дневном стационаре.
В проекте на 2022 год октреотид исключен изо всех схем со следующим обоснованием: в инструкции к препарату указано, что он не является противоопухолевым препаратом и его применение не может привести к излечению. При этом эксперты не согласны с подобным подходом и считают, что выведение схем с октреотидом из группировщика является неправильным решением.
Как отмечает врач-онколог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина к.м.н. Илдар Курмуков, октреотид используется при диарее, развивающейся при карциноидном синдроме, и является необходимым компонентом лечения таких пациентов: «У группы пациентов с карциноидным синдромом октреотид является базовым препаратом при лечении, и исключение этого препарата не предполагается».
Заведующая отделением краткосрочной химиотерапии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова к.м.н. Елена Ткаченко подчеркивает, что лечение карциноидного синдрома является жизненно важным, так как при развитии данного синдрома возможен летальный исход.
Интересно, что назначение аналогов соматостатина – октреотида или ланреотида – показано в КР «Нейроэндокринные опухоли» пациентам с неоперабельными высокодифференцированными опухолями с положительным статусом рецепторов соматостатина типов 2А и/или 5. Оба препарата в АТХ классификации входят в группу «гормональных препаратов системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов».
Кроме того, оба эти препарата включены в стандарт медпомощи взрослым при нейроэндокринных опухолях (приказ Минздрава России от 12.02.2021 № 75н). Но ланреотид, в отличие от октреотида, из проекта схем лекарственной терапии для лечения солидных опухолей не исключен, в связи с чем исключение октреотида вызывает еще больше вопросов.
В КР «Нейроэндокринные опухоли» также указано, что «при прогрессировании опухолевого процесса или при непереносимости октреотид может быть заменен на ланреотид. Также при непереносимости одного из препаратов может быть назначен другой». По-видимому, теперь заменять ланреотид октреотидом врач будет за счет пациента или за свой счет.
Оплату не получишь, но лекарство назначить обязан
Исключение лекарств может сказаться не только на неоплате лечения медицинским организациям. Неназначение препаратов может повлечь за собой наказание.
Елена Ткаченко обращает внимание: «Исключение деносумаба и октреотида из группировщика не означает, что медицинская организация теперь имеет право не применять эти препараты. При наличии показаний их неназначение пациентам будет являться нарушением качества медицинской помощи. И, не назначив препарат пациенту, нуждающемуся, например, в деносумабе, медицинская организация получит неполную оплату своих затрат по лечению такого пациента. А если такое неназначение привело к ухудшению состояния здоровья пациента либо создало риск прогрессирования имеющегося заболевания или риск возникновения нового заболевания, больница получит снятие оплаты на 40 и 30 % штрафа».
Повторно отметим, что конкретные препараты, применяющиеся при сопроводительной терапии иных осложнений, в схемах и вовсе не обозначены. Это исключает возможность качественного расчета стоимости применения препаратов при формировании тарифов, а значит, исключает возможность гарантированного получения сопроводительной терапии пациентами.
Диалог-монолог профессионального сообщества с Минздравом
Профсообщество не первый год кричит о проблемах в сфере сопроводительной терапии, надеясь, что Минздрав прислушается к нему.
В 2021 году был проведен ряд мероприятий с широким экспертным обсуждением вопросов сопроводительной терапии. Так, летом 2021 года проблематика обсуждалась в рамках тематического круглого стола, организованного фондом «Вместе против рака». А осенью состоялся круглый стол по вопросам оплаты лечения анемии у онкологических пациентов.
По мнению медицинского сообщества, решение проблемы надо начинать с разработки отдельных КР по сопроводительной терапии. Далее схемы лечения смогут с большей долей вероятности войти в КСГ по онкологическому профилю. Также это обосновано и объемом КР – целесообразно разработать отдельный документ, нежели дублировать блоки по 100–150 страниц в каждой КР по лечению злокачественных новообразований.
Однако регулятор не склонен прислушиваться к профсообществу и тем более идти ему навстречу, по всей видимости, понимая все финансовые последствия разработки отдельных КР. Поэтому на уведомление RUSSCO о начале разработки одиннадцати КР по сопроводительной терапии последовал слабо аргументированный, но емкий ответ о нецелесообразности разработки подобных КР.
Отдельные онкологические тарифы на оплату сопроводительной терапии также совершенно необходимы, по мнению специалистов. Онкопациенты страдают и от других осложнений – не только от фебрильной нейтропении. Помимо этого, следует создать возможность в рамках одной госпитализации получить оплату по двум КСГ: за лечение онкологического заболевания и проведение сопутствующей терапии.
Кроме того, по мнению экспертов, необходимо просчитать и «погрузить» в онкологические КСГ стоимость профилактики и лечения побочных явлений, которые могут возникнуть в рамках одной госпитализации. А для лечения осложнений противоопухолевой терапии, наступивших после основного курса лечения, следует предусмотреть отдельные КСГ, как это сделано для лечения фебрильной нейтропении.
Требует тщательного рассмотрения и вопрос оплаты лечения анемии у пациентов с онкозаболеваниями. Помимо проблем с непрофильной госпитализацией (отнесена к профилю «Гематология»), специалисты сетуют на низкий тариф, не покрывающий фактическую стоимость курса терапии одного из самых грозных осложнений у онкопациентов. Все эти моменты были перечислены в резолюции, направленной в Минздрав по итогам круглого стола. Полученный недавно ответ регулятора сводится к информированию о том, что предложения по актуализации модели КСГ могут быть направлены через сайт ЦЭККМП Минздрава России. Видимо, к конструктивному диалогу по конкретной проблеме КСГ Минздрав не готов. Подробно и этот ответ, и другие вопросы оплаты лечения анемии будут рассмотрены в отдельной публикации.
Мнения и предложения профсообщества освещались и ведущими СМИ, однако и это не пробило глухую стену, которой регулятор отгородился от врачей и из-за которой продолжает, как мантру, повторять, что «пациентам предоставляется все необходимое лечение».
Не исключено, что это так. Но как и за чей счет предоставляется лечение пациентам, имеющим право на него в рамках ОМС? Почему гарантии не подкреплены финансово? Почему подход регулятора прямо противоречит целям федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и свидетельствует о неэффективном расходовании его средств? Ведь после получения дорогостоящей терапии онкобольные погибают не от рака, а от осложнений, не получив относительно дешевые лекарства от них.
«Ситуация странная со всех точек зрения, – комментирует проблему адвокат, вице-президент фонда Полина Габай. – Конечно, уже давно не удивляет, что ст. 41 Конституции ограничена правом граждан на получение медпомощи в объеме Программы госгарантий. Однако сужение этой программы должно когда-то прекратиться. Не так давно ее капитально откусили по уровень перечня ЖНВЛП, выкинув из оплаты все препараты за пределами этого списка. В этом году происходит новая усушка и утряска, гарантии и право на медпомощь остаются на бумаге, притом многое довольно неплохо выглядит, но плохо пахнет, так как финансово многие положения программы просто не обеспечиваются. Это как в детской загадке: “Висит груша, нельзя скушать”. Часть тарифов КСГ рассчитана таким образом, что близко не покрывает реальные затраты больницы, ясное дело, что их используют по минимуму – неужели больница будет лечить за свой счет. С сопроводительной терапией ситуация еще более тяжелая, ее просто пытаются исключить даже из тарифов. Ходили слухи, что планируется отдать это на откуп региональным бюджетам, но все это, как всегда, полунамеками, официально этого нигде нет и не будет. Но главное в том, что регионы и так не тянут свою региональную льготу, им еще ОМС-ных обязательств не хватало. Еще проблема в том, что это не только ударит по пациенту, но и по врачам и больницам, так как обязанность лечить пациента останется и неоказание должной помощи по-прежнему повлечет ответственность врача».
В ближайшее время фонд планирует отправить новый запрос в Минздрав с описанием всех беспокоящих проблем, а также пригласить представителей Минздрава России, ЦЭККМП Минздрава России и ФФОМС к диалогу в рамках программы «Час онкологии с Полиной Габай».

По программе госгарантий медицинская помощь в условиях круглосуточного и дневного стационара оплачивается на основе групп заболеваний, в том числе КСГ.
КСГ – это группа заболеваний, относящихся к одному профилю медицинской помощи и сходных по используемым методам диагностики и лечения пациентов и средней ресурсоемкости (стоимость, структура затрат и набор используемых ресурсов). Для каждой КСГ на федеральном уровне устанавливается коэффициент относительной затратоемкости, исходя из которого рассчитываются тарифы в денежном выражении.
Речь идет о схеме доксорубицин + цисплатин + филграстим, которая была описана в КР «Злокачественные опухоли костей». В КР «Саркомы костей», пересмотренных в 2020 году, добавление Г-КСФ к режиму AP не предполагается, хотя в практических рекомендациях RUSSCO по фебрильной нейтропении доксорубицин + цисплатин относится к схемам химиотерапии с высоким риском развития фебрильной нейтропении.
Направлены письмом Минздрава России № 11-7/И/2-20691, ФФОМС № 00-10-26-2-04/11-51 от 30.12.2020.
В КР «Саркомы костей» указывается, что гигантоклеточная опухоль является доброкачественным остеолитическим образованием костей, а в литературе отмечено, что 5–10 % всех случаев составляют ее злокачественные варианты. Злокачественной гигантоклеточной опухоли кости в МКБ-10 соответствуют коды C40, C41.
Указанное вытекает из Правил ОМС, согласно которым одним из оснований наложения санкций на медицинскую организацию является невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических и/или лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на основе КР и с учетом стандартов медицинской помощи.

- кандидат юридических наук
- учредитель юридической фирмы «Факультет медицинского права»
- доцент кафедры инновационного медицинского менеджмента и общественного здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России
- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета Госдумы РФ по охране здоровья






















